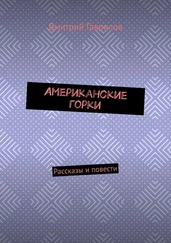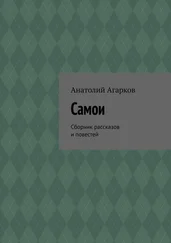Он замолчал, еще более сгорбился, сник, уже стемнело, и окна зажглись, и под фонарями что-то летело: то ли дождь, то ли снег.
— Вот там, — он махнул рукой в сторону католического храма, — мы когда-то жили, там я родился и вырос, там прошли лучшие годы моей жизни. Отец мой лесничим был, мать — медсестрой. Он часто брал меня с собой в лес.
Иногда всей семьей отправлялись в лес, на телеге, помню и лошадь, и телегу, и возницу, и как он поправлял сено в телеге с любовью, именно с любовью, чтобы всем нам было удобно сидеть, и мы с сестрой забирались в это сено с ногами, и трогались в путь, и постукивало подвешенное к телеге ведро, и мы ехали по городу, а потом по правую сторону яркой зеленой волной накатывалась рощица совсем юных дубков, а слева полынно серебрились овраги, и васильки вдоль дороги кланялись нам, и зелеными холмами вставали в отдалении леса, и вокруг разливалась рожь, и темный ветер гнал мягкие волны ржаного моря, и грохотали бревна мостка под колесами над прозрачной водой, и лошадка взбиралась в пологую горку, и проступали очертания таинственного оранжево-синего камня, на котором, казалось мне, была написана и моя судьба… Впрочем, зачем я все это рассказываю вам? Ведь вам, я так понимаю, наплевать на такого рода лирику. Впрочем, извините…
Он грустно посмотрел на меня.
Мне захотелось с ним выпить, и я предложил ему зайти в ближайший ресторан, но он отказался.
— Я угощаю, — сказал я.
Он усмехнулся и покачал головой.
Отклонил он и приглашение зайти ко мне.
— Потом как-нибудь, в другой раз, — ответил он. — Лучше, если не возражаете, еще немного прогуляемся.
И мы еще долго гуляли по грязному городу.
2
Он был в бежевой штормовке и в кепочке защитного цвета.
Он стоял близко к краю тротуара, и пронесшийся автомобиль едва не зацепил его крылом; он пошатнулся и пробормотал что-то о нуворишах.
Автобусы из-за разрытой дороги не ходили, и мы отправились пешком.
За плотиной поднялись к ржаному полю и по тропинке среди зеленой ржи вышли в деревню.
В магазине продавались спички, мыло, маргарин и войлочные ботинки.
Церковь и памятник Ленину заросли лопухами. Мужик на мотоблоке с тележкой вез свежескошенную траву. На зеленой воде пруда в обрамлении высоких деревьев и густой травы картинно застыли белые утки. Кто-то с утра пытался играть на баяне.
Дальше пошли коттеджи, и он сказал, что все это — гнезда наших славных новых слуг народа.
Холмистый пейзаж был живописен, и я сказал, что неплохо бы здесь пожить в уединении, в тишине.
— Ты опоздал, — усмехнулся он. — Этот пейзаж уже куплен. Мы обмануты, ограблены и выброшены на свалку самым циничным образом. Впрочем, тебя это, кажется, не касается.
— Почему? — удивился я.
— Ну как же! Ты ведь недавно в Италию ездил! Они и тебе, так сказать, кость швырнули со своего барского стола, и теперь ты обязан честно и благородно отрабатывать эту подачку.
— И поэтому я бреду с тобой по этой дороге.
— Я не знаю, зачем ты бредешь со мной по этой дороге! — воскликнул он, и голос его задрожал, и мне показалось, что он вот-вот заплачет.
Вышли к полю, которое резким наклоном было похоже на палубу терпящего бедствие судна.
Мы не сразу нашли свои участки.
Земля была сухая, в глыбах, картошка выглядела плохо, а немощная ботва была густо усеяна расписными шкатулками колорадских жуков, и мы стали давить их пальцами, а потом били тяпками по сухим глыбам пересохшей земли; потом долго сидели под забором обширного деревенского двора среди сухой травы, в которой краснела мелкая земляника, а за забором стоял старый, сухой сад, и там были козы, и одна из них просунула в щель к нам свою морду, и он подал ей кусок хлеба и сказал, что глаза у нее очень красивые, и вдруг подул резкий ветер, это почему-то встревожило его, и он сказал, что сейчас мимо нас кто-то прошел, и что то, что я ничего не увидел, еще ничего не значит, потому что это может увидеть лишь тот, кто терпит бедствие, а сытому и самодовольному этого никогда не увидеть и не понять — такова уж, извини, логика, и голос его снова задрожал, и мне снова показалось, что он вот-вот заплачет, и я стал его пытаться чем-то развлечь, утешить, но он быстро взял себя в руки и резко ответил, что не нуждается в утешении и что мои попытки кажутся ему нелепыми и смешными; он собрал в траве землянику и протянул ее мне.
А глубокой ночью он позвонил и просил не сердиться на него; голос его часто обрывался и переходил на шепот и бормотанье, а за окном уже светало, и пух чего-то отцветающего летел мимо окна и был похож на снег.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Анатолий Гаврилов Берлинская флейта [Рассказы; повести] обложка книги](/books/228661/anatolij-gavrilov-berlinskaya-flejta-rasskazy-pov-cover.webp)
![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)

![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/books/216144/anatolij-zemlyanskij-posle-grada-malenkie-povesti-thumb.webp)
![Анатолий Гаврилов - Вопль впередсмотрящего [Повесть. Рассказы. Пьеса]](/books/228660/anatolij-gavrilov-vopl-vperedsmotryachego-povest-thumb.webp)
![Анатолий Алексин - Мой брат играет на кларнете [Повести и рассказы]](/books/397351/anatolij-aleksin-moj-brat-igraet-na-klarnete-pove-thumb.webp)