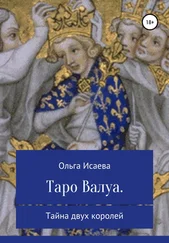В пятнадцать лет я с отроческой жестокостью отнеслась к "жалкой мелодраме" маминой жизни. Впереди у меня была собственная, и я намеревалась прожить ее по своему сценарию. Однако после школы поступила не в театральный "через мамин труп", как хотела, а в московский педагогический. Сколько бы она ни стращала меня многочисленными сюжетами из русской классики про актрис-неудачниц, они никогда бы не подействовали на меня, если бы последний залп запоздавшего лет на двадцать маминого здравого смысла не разрушил бастион моей решимости. В театральном блата не было, а в педагогическом был. Особого ума не требовалось, чтобы понять, что без блата втиснуться в гуманитарный вуз не стоило даже мечтать, у меня же кроме страстной любви к независимости, не было ничего, даже элементарной грамотности. В своих театральных способностях я не сомневалась, но все же предпочла мамину синицу своему журавлю, лишь бы не оставаться в опротивевшем в конец темном царстве незамужних ткачих еще на целый год. Вообще-то, в нашем городе был собственный педагогический институт, поступить туда блата не требовалось, но этот вариант мама сама отвергла как неприемлемый. Засунув ради меня в долгий ящик свои возлюбленные этические принципы, она разыскала в Москве бывшую однокурсницу – ныне завкафедрой в вожделенном столичном ликбезе.
Когда-то, став участницей трагического фарса, вошедшего в историю под названием "Освоение Целины", мама променяла скучную аспирантуру в родном пединституте на тяжелый жизненный опыт в казахстанской степи в обществе таких же, как и она, добровольных жертв коллективного безумия и невольных жертв массовых репрессий. На ее место в аспирантуру взяли нашу благодетельницу и теперь, через двадцать лет, приняв требуемые этикетом хрусталь и коньяк, та даже рада была помочь своей униженной просительнице. В ликбез меня приняли, несмотря на то, что кое-какие вопросы на вступительных экзаменах приоткрыли мне глаза на фантастические размеры моего невежества. В сотый раз дав слово быть благоразумной, я уехала в Москву, а мама осталась в нашем богоспасаемом городишке и неожиданно вышла замуж за человека внешностью и развитием напоминавшего насекомое. На мое возмущение ответом была слышанная-переслышанная речь о стакане воды.
Первые месяцы в огромном, не верящем слезам таких как я дурех, городе казались нескончаемыми, как детсадовская размазня пополам с соплями, и были окрашены ярким, параноидальным ощущением тотальной неодушевленности. Людские потоки выплевывались разинутой пастью метро и обтекали меня, продолжая свое неостановимое механическое движение по железобетонным ущельям. Иногда из безглазой массы до меня долетала вдруг легкая бабочка смеха и тут же растворялась в шуме уличного движения. Иногда обрывок оживленного разговора заставлял вздрогнуть и устремиться ему во след, но тут же уносился прочь, оставляя в душе горечь упущенного шанса. По вечерам у театральных подъездов бурно вспенивалась нарядная толпа, но с первым звонком утекала внутрь, так и не заметив моего жадного внимания. Мне оставалось лишь бессмысленно бродить по улицам и глазеть на освещенные окна чужих домов, гадая, не таится ли за ними та желанная, таинственная, недоступная мне столичная жизнь. Мысленно я заговаривала со скрывшимися за взглядонепроницаемым забором газет гражданами в метро, с погрязшими в неизлечимой рутине преподавателями, с фанатически мечтавшими о шмотках и замужестве однокурсницами, но из реальных попыток контакта не получалось ничего.
Не легче обстояло дело и с соседями по общаге. Я презирала их жлобскую домовитость, их пьяные оргии, сальную, пахнущую самогоном, луком и заскорузлым бельем похоть. Мне легче было быть совсем одной, чем развлекаться в растленном обществе местной оперотрядовской элиты, страдающей вечным похмельем и хроническим триппером.
Были конечно же в общаге и добропорядочные провинциальные барышни, но стоило к ним приблизиться, как их пугливая москвошвейская стайка снималась и исчезала за неприступными стенами комнат, где, по слухам, на окнах сохла герань, пылились банки с вареньем, окропленные невесомыми мушиными трупиками, а стены украшали фото возлюбленных в форме солдат внутренних войск и картинки из журнала "Работница".
Умопомрачительная тоска казалась такой непобедимой, что частенько хотелось на все начхать и вернуться домой к маминым страстным нравоучениям и истрепанной, как лоскутное одеяло, "Всемирке". Я даже, может быть, так и сделала бы, если бы не прискорбный факт – никакого дома у меня больше не было.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу