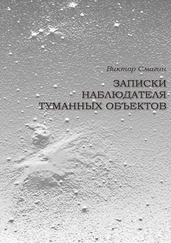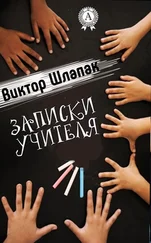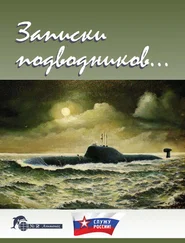— Плакатишки пишу, — объясняет Иван Иванович, заметив мою настырность. — В сей миг не упомню, сколько их заказали.
Он достает из наволочки жеваные бумажки и, крепко зажав их в кулаке, словно старается выдавить из них что-то себе на пользу. И кажется ему: что-то выдавливается из бумажек, выдавливается.
— С одним деятелем скуковались на халтурку... — Он с сомнением качает головой и нехотя добавляет: — Еще тот деятель! Боюсь, как бы не обдурил.
Как в воду глядел.
Рваный рублевик по акту. Шахтер
Белый утренний свет у нас на плечах; машина буравит морозный воздух, холод жесток, облака на восходе солнца багровы. Деревья обметались ледяной кожурой, лес кажется вырезанным из белой жести, он скрипит и названивает. Придорожные проволоки на столбах обындевели, огрузли, — всякому глазу видно, что гнет тяжек.
Доехали — скорей в тепло. Железная бочка, приспособленная под печь, уже красным-красна, недолго ей покраснеть; брезентовые робы, деревенеющие на морозе, обмякли. Идет пар от кружки с кипятком, витает над кружкой чья-то будняя забота.
А иной отлетает мыслью от этих буден, отлетает; ему сейчас, перед тем как выйти на мороз до самого обеда, другого тепла надобно.
Мое лицо на ощупь — замшевое, так шершавится кожа от сварки. И что я вот сейчас чувствую, чем жив? А то я чувствую и тем жив, что свой я среди своих, что их заботы — мои заботы и что их, какие ни есть, радости — и мои тоже
— Был у нас в деревне кипун-колодец, — умильно щурится на свет окна Пименов. — Вот где водица была слатенька!..
Он приканчивает уже вторую кружку, он лыс и безбров, веки у него вывернуты, глаза смиренны.
— Нет слаще березового молока, — вспоминает кто-то. — Это, брат, весной!
В нашей избе-времянке, в которой до этого квартировали геологи, а еще раньше жил замшелый карел-отшельник, словно бы единый широкий вздох пролетел: весна вспомянулась.
Входит бригадир Лешка Голованов, огромный, рыхлый, всегда по-мальчишески краснолицый, легко краснеющий еще больше того беспричинно, и объясняет, что рабочий день актируется.
— Пошабашим, товарищи, я только что с планерки: у Карловича на термометре минус сорок. Уходить никому не велено, будем сидеть в будке. Может, мороз отпустит.
— Право слово, сам не ам и другим не дам! Черт горбатый, нет чтобы по-людски вырядить! — несется по адресу начальника стройучастка. Все сейчас всколыхнулись, кроме бригадира, против него.
Он — горбун, с длинными руками и с длинным бледным лицом, с белыми бесцветными глазами в глубоких глазницах, в коротком овчинном кожушке и в литых сапогах, в которых двоится лаковой черноты солнце. Величают его по отчеству Карловичем, он финн, лет ему будет под тридцать.
— Вся оплата по акту — рваный рублевик, — толкует бригада. — Мы тут ни ухом, ни рылом не виноваты, потому — стужа, вот и сделай милость, освободи народ, увези в поселок...
— Должно быть, выжидает он, с морозом теперь советуется... — говорит свою догадку Лешка Голованов, свекольно выкраснев.
— День все одно негожий: на воле дышать трудно, работа не сладится, — горячатся, доказывают ему.
— Для Карловича самое первое — стройка, об этом у него вся болезнь; с него тоже семь шкур спустят, не помилуют, если что... А я вовсе подначальный, мне ничего не надо доказывать! — ответствует Лешка. Он и конфузится в своей роли третьей стороны, ему не хочется упасть в глазах бригады, и от начальника стройучастка он зависим. Мало ли что! Нет, Лешка начальника не похает, не выдаст теперь.
Ждем до половины второго. Мороз, пожалуй, усилился: подул разгонистый ветер, сильней лица прихватывает. Стало ясно, что ждать нечего; и в самом деле уже разрешают уйти. Но машин еще нет, день в общем-то прошел, и поэтому не торопятся.
Я решился на пробежку — до поселка километров восемь-девять по лесной дороге, — на мне ватник и поверх роба, так что не замерзну. Попутчиков не нашлось, и вот я бегу один, дорога уезжена, увалы снега по сторонам велики, ветер в спину. Не пробежав и двадцати шагов, ожесточенно тру лицо варежкой: щеки прихватило, лоб чугунеет, губы стынут.
Опять бегу, воздух колок и сух; но мне теперь уже жарко — лицо, чувстую, пышет, узел шарфа сбился набок. Дорога передо мной блестит, кружит, пот застилает глаза. Вдруг чувствую тяжесть всех одежек, валенки заледенели и глухо стучат о дорогу.
Надвинулся лес, он сквозит, в прогалах стоит зелень неба — необъяснимая, согласно звучащая. Вспоминаю чей-то зеленый взгляд — искоса, через плечо, длинный взгляд. От него у меня вспрыгнуло, метнулось сердце.
Читать дальше