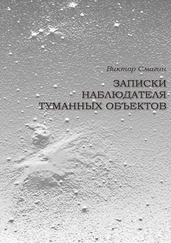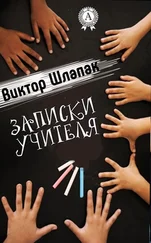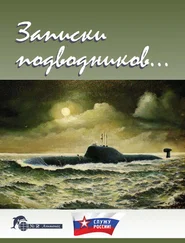...В соседней комнате целуются звучно, поют протяжно, — там постоянно рассыпается мелким хохоточком женщина, гуляющая с Петровичем, прибегающая к нему ежедневно.
Стоит приехать со стройки, раздеться, развесить в углу на гвоздях телогрейку, ватные, с напяленными поверх них брезентовыми, брюки, умостить валенки с портянками на батарее и в трусах, содрогаясь от коридорной стыни, замаршировать на кухню и далее в ледяную ванную, как без стука распахивается входная дверь и на тебя обрушиваются хохоток, вскрики, бесстыдство черно-смородинных глаз на смуглом, с мелкими чертами, лице.
Злоказова — так ее фамилия — пошарит за плинтусом, найдет ключ, отопрет Петровичеву комнату, — сам он еще не возвращался с монтажного участка.
В огромной его комнате для командированных — единственная застланная кровать, две другие пустуют, показывая голые сетки. Посередине же у него необъятный бильярд, на котором, бывает, кто-нибудь и ночует...
Вот щелкнули шары: Злоказовой скучно. Еще щелчок — шар с громом летит на пол. Битва осатаневших шаров означает, что гостье надоело ждать. Петрович явится, скрежеща мерзлым брезентом робы; она кинется к нему и уже не отстанет, вечер пойдет, как прежние вечера...
Но иногда за ней приходят ее две девчонки, лет девяти и десяти, — она выпроваживает их, покрикивая тонко, словно извиняясь:
— Сейчас приду, приду, идите пока с Танькой играйте, отвяжитесь от меня!
И хохочет, показывая коронки на мелких клычках, по-цыгански поглядывая на Петровича.
— Вот вам папка скоро будет, хорош ли, нет — смотрите сразу. Скоро дождетесь себе папку...
Потом он играет на бильярде с приятелем, не обращая на нее внимания, а она поет тоскливо, на вред ему, или стучит ногой в пол:
— Чокнутый, ох и чокнутый ты! Ведь я же посмеялась, дуралей, не злись!..
У Романа раскрыта дверь и слышно, как кто-то дрожащим от смеха голосом зачинает сказку:
— Жили-были муж с женой, и гуляли они так, что всем чертям тошно. А было у них три сына...
Должно быть, это куролесит Вадим. Отменно красив он, и не устает хвастать братом, капитаном дальнего плавания; здесь, на стройке, сошелся он с женщиной, которую заглазно, нехорошо усмехаясь, зовет Крокодилом; на лице у него, как и у Костина, шрам.
Совсем недавно вернулся он из армии с трехмесячной переподготовки и брал у меня галстук — сфотографироваться на новый военный билет: ему дали офицерское звание.
— Микро-лейтенант! — кричал он, сияя глазами, и отмерял двумя пальцами: — Микро...
На воображаемом погоне у него высвечивала одна звездочка.
Так и вижу Романа, утонувшего по-всегдашнему в продавленной кровати, слушающего Вадима поощряюще, с раскроем глаз каким-то палаческим, с синими буграми ободранной под бритву головы.
Романа боятся: он бывает жесток к сотоварищам. Есть у него и свое словцо про запас — уж такое ли словцо! — отчаянное. В минуты злые, со слезами ярости на глазах — на себя и весь свет — он не устает повторять:
— Эх, и не видать свинье неба, а Роману — счастья!
Не однажды он говорил, доверяясь мне, точно брат:
— Зачем у меня такая жизнь, а? Я ненавижу себя! И когда-нибудь, чувствую, я себя порешу...
Я не знал, что на это отвечать. И только понимал, что Роману совсем плохо и что надо ему помочь; но чем? как? — этого я не знал.
Как будто пилят сверчки или играют цикады — всю ночь тает снег, всю ночь скорая капель. Оттепель кажется неожиданной, дует широкий ветер, обещающий, обманывающий.
И долгий, чуть не всю ночь, разговор у Петровича за стенкой: к нему приехали его дети из Медвежьегорска — девочка и мальчик. Видел я их мельком: мальчик в полутьме коридора обнаружился маленьким и тихим, а его сестра, совсем юная девушка, во всем опекала его, глядя на него грустно и нежно, точно она ему мать, а он ей сын...
Петрович сказал дочери, что не будет с ними жить, и пусть она передаст это матери... А он уйдет к другой, у которой тоже дети, но которая его любит. Не то что мать... Голос у него прозвучал глухо, хрипло, словно его душили; во весь этот вечер к нему никто не зашел и не играли на бильярде.
— Я не хочу, чтобы ты уходил, — уныло говорит девочка, — не хочу...
— Но почему? — глухо спрашивает Петрович и чувствуется в нем ожесточение. — Почему, ты ответь?
— Не хочу, и все!..
Безнадежное, упорное противостояние ее открывает мне, невольному слушателю, душу жалеющую, сочувствующую, терпеливую, и я впервые начинаю тогда думать: «Как это много — понять человека, полюбить его и терпеливо простить!»
Читать дальше