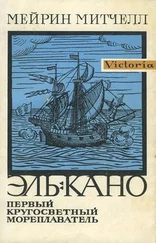Ей знаком только ее небольшой страх, который бродит вокруг нее, как инстинкт. Неосязаемое ощущение, которое она пытается отпугнуть песней «Procol Harum», потому что эта песня и странный голос солиста делают ее счастливой.
Она не знает, что значит «жизнь в опасности».
Но она знает, что какой-то страх она все же испытала и что пропорционально его количеству, много его было или мало, она, конечно, должна будет написать и о нем.
Поэтому тридцать лет спустя Валерия будет смотреть на снег из уютной и теплой квартирки в Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке, на берегу Гудзона, и вспомнит о своем маленьком страхе.
Вряд ли она сможет вспомнить тот момент, когда страх появился в ее жизни. Страх похож на кубинские закаты: невозможно зафиксировать то конкретное мгновение, когда опускается ночь. Валерия знает, как трудно, если не сказать невозможно, родиться на Кубе в такой решающий год, как 1959-й, и не привыкнуть жить со страхом.
Она скажет и напишет: в детстве ее маленький ужас просыпался с приходом чего-то или кого-то. Например, всегда внезапным, ночи. И дня. И еще более конкретным приходом любого незнакомца. Закат, рассвет, люди — вот три оси ее страха. Все вращалось вокруг этих трех страхов.
Наступала ночь, и дом замирал в тишине, наполнявшей его голосами, криками, тенями, птичьим щебетом и музыкой орегонских лесов, как утверждал дед.
Наступление ночи означало для нее нечто парадоксальное, когда одиночество и безмолвие оборачивались присутствием и шумом.
Угасали последние лучи заката на берегу, на горизонте исчезали последние отсветы дня. Море отступало, смешивалось с темнотой. Ночь по-хозяйски проникала в окна, открытые ветру. Заходила каким-то образом в закрытые двери. Сначала она присваивала себе голоса, которые в комнате дяди Мино без устали тянули свои блюзовые баллады на английском языке.
Затем ночь завладевала тишиной и испуганной возней вьюрков.
Бабушка Андреа зажигала пыльные электрические лампочки и старые масляные лампы с грязными стеклами на высоких покривившихся потолочных балках, отчего дом превращался в незнакомое и зловещее место.
Удаленность и уединенность пляжа ночью делались очевидней.
Ночь опускалась плотными облаками, и Валерии казалось, что небо хочет соединиться с землей, и что они соединяются, и что везде, на каждой поверхности, в каждом углу оседает что-то вроде тумана. Моря не было видно. Его было слышно. Шум волн доносился издалека.
И тогда слышался плеск весел, гребков и кто-нибудь говорил:
— Это они, потерпевшие кораблекрушение.
Они возвращались. Те, кто попытался достичь Севера, Большой земли, но не сумел.
— Они даже мертвые не сдаются.
— Они никогда не сдаются.
— Им нужна только передышка, чтобы наутро, бог даст, снова попытать счастья…
На рассвете, когда дом просыпался, испуская дым от тлеющих углей и запах кофе, снова слышался плеск весел, гребков.
И персонажи этой книги вздыхали и разводили руками.
Как только небо светлело, Валерия понапрасну шла на берег.
Как всегда, она находила на пляже только водоросли и дохлую рыбу, выброшенную приливом.
Среди многочисленных секретов дяди Оливеро был один, относящийся к событиям нескольких лет давности, который было бы несправедливо оставить за рамками этого рассказа.
Это произошло в Гаване, в жаркую, как и полагается, ночь начала июня.
В тех редких случаях, когда театральная труппа тети Элисы уезжала на гастроли, чтобы ее маленькая квартирка не стояла пустой на радость ворам, которых в Гаване становилось с каждым днем все больше, Оливеро переезжал в дом на улице Рейна, рядом с бывшим универмагом «Ультра», прямо напротив кинотеатра, называвшегося так же, как улица.
Со стороны Оливеро это ни в коем случае не было жертвой. Небольшая, в старом доме (1911 года, со скромным фасадом в стиле ар-нуво), квартира Элисы на шестом этаже обладала тем очарованием, которое та умела передать всему, к чему прикасалась. Чистенькая, аккуратная, обставленная в духе фильмов новой волны. Там Оливеро всегда испытывал легкую меланхолию, такую же, какую вызывали в нем Маргерит Дюрас или Роб Грийе, как будто он очутился в кадре из «Хиросима, любовь моя» или на съемочной площадке, в декорациях к какому-нибудь фильму столь любимой Элисой Аньес Варда.
Если не обращать внимания на интерьер в стиле кузины Элисы, такой авангардный для Гаваны конца шестидесятых — начала семидесятых, такой унылый и блеклый, такой французский и такой «экзистенциальный», всегда было кстати на несколько дней убраться подальше от пляжа. Сбежать из полуразрушенной хижины на берегу некрасивого моря и погрузиться в жаркую суету Гаваны, которая давно уже потеряла для Оливеро свое очарование, но в которую приятно было время от времени возвращаться.
Читать дальше
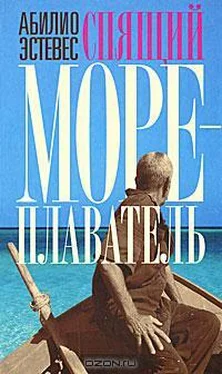
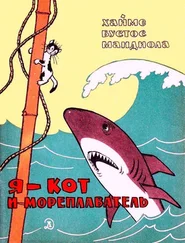





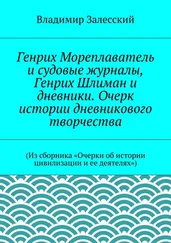
![Сергей Спящий - Холод твоего сердца [СИ]](/books/395278/sergej-spyachij-holod-tvoego-serdca-si-thumb.webp)