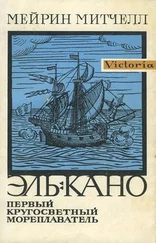Оливеро и Жюльетт чудесно провели день на пляже и выпили слишком много рома с лимонной газировкой, так что, когда наступил вечер, им было неохота ехать в Гавану в старом, пропахшем дымом и бензиновой гарью, душном и всегда переполненном автобусе, который с иронией или цинизмом назвали «Звездой Гуанабо». И они решили переночевать на пляже под шепот сосен, качающихся под порывистым ветром с берега, который разгонял москитов. Они расстелили два огромных истрепанных полотенца с гербами гаванского яхт-клуба и улеглись на пляже Гуанабо, где море, как всегда, было спокойным и блестящим от бликов золотой и слишком низкой луны и, как всегда, равнодушным, далеким от всего того хорошего или плохого, что происходило на острове. Мгновение спустя они уже спали.
А через некоторое время их разбудил грубый голос.
— Здесь двое голубых, — крикнул солдат.
Голос солдата перекрыл шум ветра, и его эхо потерялось среди сосен. Солдатские сапоги пнули их по ребрам, приклад винтовки ударил по плечам и рукам.
Друзья проснулись, но им казалось, что они продолжают спать. Снизу солдат казался гигантом. Подбежали еще трое солдат, три гиганта.
— Два педика, две хорошенькие спящие красавицы.
Грубый хохот бил еще сильнее, чем сапоги по ребрам.
— Девочки, вы что, не знаете, что нельзя спать на пляже, что ночью пляж является государственной границей?
Оливеро и Жюльетт не ответили, потому что им нечего было сказать и, кроме того, они знали цену самоуважению и молчанию.
Они встали со всем достоинством, на которое были способны. Несмотря на неловкость ситуации, Оливеру показалась забавной попытка (бесполезная) Жюльетт принять мужественный вид. Его друг не просто был гомосексуалистом, его внешность не оставляла в этом практически никаких сомнений: по-девичьи бледный, тонкий и хрупкий (как тростинка, говорил он сам), с ярким лицом, на котором выделялся большой рот, чуть раскосые глаза и острые скулы, с лицом очень подходящим для того, чтобы петь песни Жака Превера.
Их отвезли в дом, который когда-то, наверное, был летней резиденцией состоятельной семьи, а теперь превращен в казарму. Голосистый солдат, который разбудил их, крикнул другому солдату, сидящему за длинным стеклянным столом:
— Публичный скандал, они кувыркались в песке, когда мы их выловили.
Друзья в ужасе переглянулись. Никогда и ни при каких обстоятельствах они не испытывали даже искры сексуального влечения друг к другу. Они были друзьями, познакомились в ночном клубе «Сеть», аплодируя гениальной мулатке из Сантьяго-де-Куба, которая называла себя Ла Луне. Оба восхищались примерно одними и теми же вещами, испытывали сходную страсть кфранцузской культуре, встречались, чтобы послушать разные версии оперных арий и попытаться решить, кто лучше — Гундула Яновиц, Мирелла Френи или Мария Чеботарь. Ходили в Синематеку всякий раз, когда показывали «Хиросима, любовь моя», «Чувство» или «Нищий». Обменивались книгами: «Если зерно не умрет», «Коридон», «Фабрицио Лупо». Откровенничали. Время от времени ходили на поиски отчаявшихся новичков (мужчин без женщин) в окрестностях Эль-Мамея или Манагуа. Или на вечеринки в гости к общим знакомым. Или бродили по старой части города, любуясь обветшалыми особняками XVIII века. И никогда (никогда!) не коснулись друг друга и пальцем. Они были слишком похожи, чтобы чувствовать иное влечение, кроме того, которое питалось общими интересами в кино, музыке или поэзии.
Друзья попытались протестовать, но никто не обратил на них внимания. С них сняли показания и отвели в камеру.
Камера была устроена во внутреннем, засаженном деревьями дворе, в помещении часовни, посвященной некогда Богоматери из Реглы. Стрельчатая дверь часовни была укреплена грубой решеткой из квадратного некрашеного железного прута. Их заставили раздеться. Прежде чем закрыть за ними дверь, солдат крикнул:
— Ребята, вот вам двое педерастов, прошу любить и жаловать!
В превращенной в камеру часовне темнота была непроницаемой, и Жюльетт с Оливеро решили, что в ней никого больше нет, что они единственные задержанные.
Как только глаза привыкли к темноте, они обнаружили, что скамьи бывшей часовни заполнены людьми. Там было пятнадцать-двадцать человек, вернее, теней, недвижимых и безмолвных, потому что в первые мгновения никто не пошевелился и ничего не сказал.
Жюльетт и Оливеро остались стоять у дверей, тоже превратившись в неодушевленные тени. Впервые Оливеро испытывал стыд за свою наготу. До той ночи ему не приходило в голову, что можно испытывать унижение, стоя голым перед другими. Он, который восхищался красотой тела, который так яростно защищал вызывающую демонстрацию тела и его красоты, в один миг понял, что не всегда нагота бывает величественна или уместна, что она может превратиться в нечто грубое, оскорбительное, постыдное и унизительное. «Как будто этому позору суждено было пережить его» [142] Франц Кафка. Процесс. Перевод Галины Снежинской, Риты Райт — Ковалевой.
. Он вспомнил, что именно этими словами заканчивается «Процесс».
Читать дальше
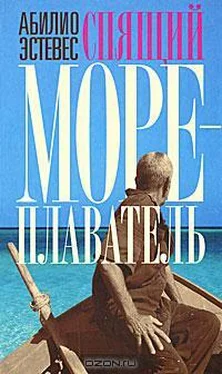
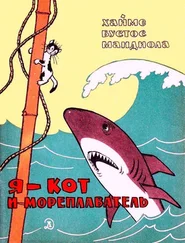





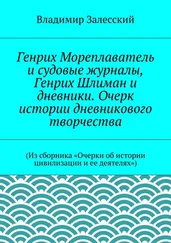
![Сергей Спящий - Холод твоего сердца [СИ]](/books/395278/sergej-spyachij-holod-tvoego-serdca-si-thumb.webp)