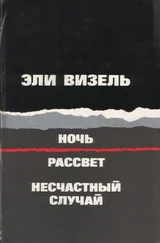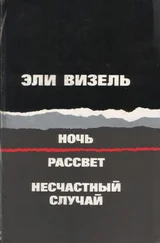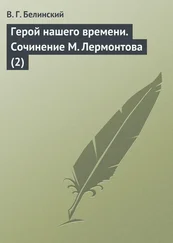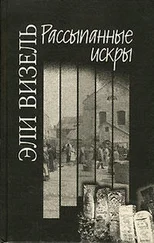Старик повторил свое заявление, подчеркнув, что оно основывается на Галахе — законе Талмуда. «Вы что, с ума сошли? — взревел Гонер. — Да вы несознательные люди, вот вы кто! Вы думаете, что вам все позволено? Это призыв к беспорядку, к неподчинению! Это вам дорого обойдется!» — «Мы знаем». — «Вы мне за это заплатите!» — «Охотно!» — «Кантор! Начинай! Не слушай этих безответственных людей! Начинай, это приказ!»
Кантор и бровью не повел. Гонер, красный как рак, корчась от гнева, тут же на месте отстранил кантора от должности и вызвал нескольких верующих, которые знали службу. Никто не шевельнулся. «Конечно, вы можете на нас донести и отомстить нам, — сказал самый старый старик. — Но мы уже стары, нам нечего терять. Мы готовы ко всему». Тут он возвысил голос: «Отныне по отношению к вам мы будем свободными евреями. И как свободный человек я прошу вас уйти в отставку и вернуться домой, чтобы община могла сосредоточиться на молитве и песнопениях».
Две тысячи зрителеи затаили дыхание. Молодые не сразу поняли, что произошло у них на глазах. Старшие улыбались, подталкивали друг друга локтями; все чувствовали облегчение, освобождение. «Нет! — вскричал глава синагоги. — Я не уйду!» — «В таком случае сегодня вечером богослужения не будет».
И эта сцена повторялась несколько раз. Киевские евреи приходили в синагогу, и Гонер тоже. Час, два часа они проводили там в молчании. Богослужения не было. Наконец Гонер не выдержал и сдался. Он ушел. И кантор начал службу, баал-коре читал Тору с высокой трибуны.
И киевские евреи, гордые своим подвигом, скажут вам: «Война Израиля? Мы в ней участвовали».
Ибо все евреи, везде и всюду, в ней участвовали, каждый по-своему.
И мы в лагере это сознавали. Докладчики, объезжавшие наши воинские части, играли роль вестников и внушали мужество именем той коллективной совести, которая казалась нам ничем не измеримой. Мы слушали их с изумлением, мы забрасывали их вопросами: как ведет себя тот или иной государственный деятель, промышленник, романист? И после каждого ответа наша надежда росла. Да, чудеса не только были нужны и даже необходимы, но они к тому же были и возможны. Да, в наших силах оказалось сломить и победить тысячелетнее еврейское одиночество. Чем больше наши докладчики говорили, тем больше от них требовали. Они должны были рассказать все, ничего не упуская.
Да, мы переживали памятные, исторические дни, это всем было ясно и всеми ощущалось. Но так как мы не любили громких слов, мы не кричали об этом. К чему тут фразы? У нас хватало забот. Мы знали, что канун сражения не продлится вечно. Взбесившиеся боги войны уже завлекли нас на край пропасти. Каждую минуту события могли разразиться, сорваться с цепи, и мир уже не будет на себя походить: мы присутствовали при его метаморфозе.
Я лично свою метаморфозу завершил. Я, считавший себя вечным врагом совместного существования и воинской дисциплины, приспособился к ним очень скоро. Отказавшись от привилегий, а также от любви к одиночеству и к неожиданному, я вставал и ложился в определенные часы, чувствуя себя кирпичом единой стены; как и все, я проклинал жару и учения, однообразие и неизвестность, а по вечерам умилялся — что мне совершенно несвойственно, — когда окрестные жители приносили нам пироги, фрукты и прочие лакомства.
Я искал общества Катриэля. Его поведение подстегивало мое любопытство. Он был одинок и умел слушать любого, кому хотелось излить душу. Он слушал собеседника так, словно хотел им стать. Он, как и я, обладал способностью жить чужой жизнью. С той разницей, что он не находил в ней материала для восстания.
Меня смущала его крайняя доверчивость. Он не подвергал сомнению ни единое слово: по его мнению, все живущие владеют искрой истины, которую они и передают, часто сами о том не ведая. «Ну, а лжецы?» — спрашивали его. «О, лжецы думают, что это смешно, — отвечал он. — Большинство из них лжет, чтобы промотать свою долю истины, но им это не удается».
Первый наш разговор с глазу на глаз состоялся в пятницу. Лагерь штурмовали женщины и дети, явившиеся навестить своих мужей и отцов. Я остался в палатке. Катриэль тоже.
— Это глупо, конечно, — сказал он, — но такие семейные встречи причиняют мне боль.
Поколебавшись, он добавил:
— Я должен был бы тебе завидовать. Ты один. Ты можешь жить или умереть, никого не вовлекая в это. Ты ни от кого не зависишь, и никто не зависит от тебя.
— А ты?
— На мне лежит ответственность за другие души.
Читать дальше