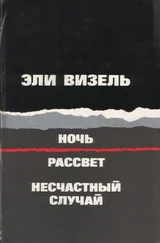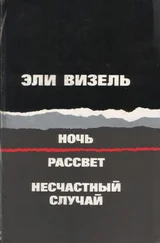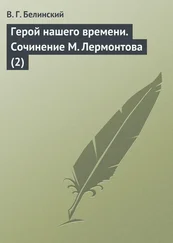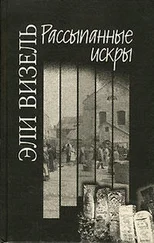Тогда я понял, что в час испытаний человек становится больше себя и представляет не только себя. Когда речь идет о его корнях, он становится суммой приобретенного или полученного по наследству опыта, комком перепутанных судеб, подспудной сетью связей и дружб, он становится совестью. Химеры и угрызения, тени и существа без теней, которые являлись ему во сне, — вот они, все они в нем, с ним, и делают то, что делает он, и заставляют его сделать выбор, толкают его на бой. Отныне он видит, он любит только ту длинную и хрупкую цепь, чьим последним звеном он является. Из зрителя он становится свидетелем. Из мечтателя — всеми теми, кому когда-то он дал биение, проблеск жизни.
Такое пробуждение было почти иррациональным. Ни на минуту не забывшие о Катастрофе, Государство Израиль и народ Израиля снова обрели единую память и единое сердце. Это сердце вибрировало и билось с необыкновенной силой, изумленное собственным порывом: это была первая победа, и о ней мы узнавали из радиопередач и газет.
Известный своей нетерпимостью цфатский раввин позволил своим последователям копать траншеи и в субботу. «Покинуть человека, — сказал он им, — более тяжкий грех, чем покинуть Бога. Тора Израиля зависит от существования Израиля. Бывает, что Всемогущий отворачивается от Своего народа — разве это значит, что и мы должны поступить так же? Я говорю: нет! Без Израиля суббота потеряет свою святость. Чтобы спасти наш народ, мы пожертвуем субботой».
В другом месте цадик, укрывшись в своем жилище, обхватив голову руками, обратился к Богу: «Никогда я не сомневался в Твоей справедливости, в Твоей доброте, хотя пути их нередко от меня ускользали. Я все вынес, все принял с любовью, с благодарностью скорее, чем со смирением. Я принял кары, абсурд и гекатомбы, я даже ничего не сказал о смерти миллионов детей. Под тенью нестерпимой тайны Освенцима я подавил в себе крик, гнев и желание покончить со всем этим раз навсегда. Я избрал молитву. Я старался превратить в песнь кинжал, который Ты так часто вонзал в мое покорное сердце. Я не бился головой о стену, не вырывал свои глаза, чтобы больше не видеть, язык, чтобы больше не говорить. Я говорил себе: легко умереть за Тебя, легче, чем жить с Тобой, ради Тебя, в Твоей благословенной и проклятой вселенной, где и проклятие, как все остальное, несет на себе Твою печать. Я придумывал причины, придумывал радости, чтобы связать их с Тобою и привязать себя к ним. Но…»
Хоть он и решил не плакать, но почувствовал, что слезы текут по его рукам. Он не стал их удерживать. «Но теперь кончено, — продолжал он с удвоенной силой. — Ты меня слышишь? Теперь кончено. Я на пределе, я больше не могу. Если и на этот раз Ты бросишь свой народ, если и на этот раз Ты позволишь убийцам перерезать Твоих детей и загрязнить их преданность Завету, если и теперь Ты изменишь своему обещанию, то знай, Господь всего, что дышит, знай, что Ты больше не заслуживаешь любви Своего народа, той страсти, с которой он славит, святит и оправдывает Тебя перед всеми и против всех, перед Тобой и против Тебя самого; если и на этот раз оставшиеся в живых будут перебиты и смерть их будет осмеяна, — знай, что я покину свое кресло и свою должность наставника, я брошусь наземь и посыплю голову пеплом, и буду плакать, как не плакал еще никогда в жизни, буду выть, как ни одна жертва еще не выла перед смертью, и знай, что каждая слеза моя, каждый крик будут омрачать Твою славу, каждое движение мое будет отвергать Тебя, как Ты меня отвергнешь, меня и слуг Твоих с их разящей и эфемерной правдой».
И, задыхаясь, раввин бессильно уронил на стол внезапно отяжелевшую голову, словно пытаясь спрятаться.
А вот что произошло на Украине. Единственная в Киеве синагога никогда еще не была так набита. Две тысячи человек. И, что редко бывало, — много молодежи. Обычно главный стукач, некий Иона Гонер, оттеснял молодых куда-нибудь подальше, в сторонку. Грубый, злобный, сварливый, он подавлял всякую попытку передать еврейское наследие новому поколению. Он был главой синагоги и правил ею, как тюремщик. Старики, ходившие туда молиться, дрожали перед ним. Все знали о его связях с тайной полицией.
Но в этот вечер молодые пришли раньше, чем он, и их было такое множество, что он не мог их выгнать. Он был хитер, он понял, что их присутствие не случайно, что оно символизирует солидарность с далекими братьями. И старики тоже это поняли. Они сияли от гордости и счастья. Потом они тихонько посоветовались между собой и постановили нанести сегодня решающий удар. И когда Иона Гонер приказал кантору начинать, трое самых почтенных стариков поднялись и приказали кантору оставаться на месте. После чего самый старший из них смерил главу синагоги презрительным взглядом и твердо сказал: «Пока среди нас присутствует предатель, нам запрещается вместе молиться». — «Что? — вскочил Гонер. — Ты что сказал?»
Читать дальше