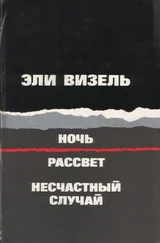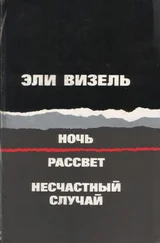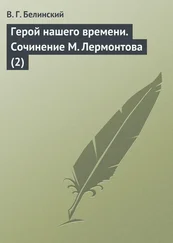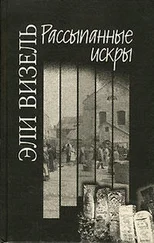В эту минуту существует только улица, только дом, они опять принадлежат мне. Больше, чем прежде, лучше, чем когда бы то ни было. Мои стены, мои деревья, мои соседи, мои свидетели, мои убийцы, мои товарищи по школе, по играм, по борьбе, по агонии. Здесь, на этом клочке земли, я открыл смысл авантюр, ожог желания, власть обладания, здесь я все это утратил.
Долго я брожу, как вор, вокруг дома с опущенными занавесками и спрашиваю себя, не постучать ли просто в окно и разбудить жильцов:
— Впустите меня, я уйду завтра, если будет завтра.
Я знаю, что этого не сделаю, и испытываю чувство унижения. Потом я останавливаюсь у ворот и ожидаю чуда, все равно какого, все равно, как оно произойдет. Пальцы мои трогают ограду сада, фасад магазина, — может быть, они вернут мне потерянные предметы, расплывшиеся образы. Я чувствую себя уязвимым и непобедимым: могу сделать все, но мои действия не будут записаны ни во времени, ни в чужом сознании; могу вызвать прошлое, но не могу его воскресить: прошлое мертво, и я одинок. Чего бы только я ни отдал, чтобы услышать плач ребенка, колыбельную песенку матери — все равно какую, только бы хоть о чем-нибудь рассказывала эта колыбельная. Но мне было нечего дать, и ночь продолжалась и душила все голоса.
А между тем и здесь тоже ничего не изменилось. Дом напротив стоит как стоял: там жил Боршер ребе. Только нет больше света в его окнах. И дом рядом с нашим стоит как стоял: там жил Слотвинер ребе. Только молитвы не доносятся больше оттуда. Уехали, и тот и другой. Но улица осталась прежней, мир остался прежним, и, конечно же, Бог тоже остался прежним — только без евреев.
Я говорю себе, что должен открыть ворота, пересечь двор, подняться на крыльцо и войти в кухню. А вдруг кто-нибудь ждет меня там, у плиты, и не задаст ни одного вопроса, просто предложит сесть, даст стакан молока и кусок хлеба и скажет: «Ты прошел длинный путь, у тебя нет больше сил, постель готова, отдохни».
И я отвечаю себе: «Нет, только не это, не буди того, кто спит в твоей постели, он не простит тебе, что ты вернулся живой. Кто знает, может, он не спит, может, он ждет тебя, подкарауливает, знает, что ты здесь; он уже двадцать лет подкарауливает твое возвращение. Лучше уходи, покинь город, покинь эту страну, нечего тебе здесь делать, не на что смотреть, нечего искать».
Ночь длится, а я жду знака. Надо принимать решение, еще один раз, последний. Это будет последний шаг, но я не осмеливаюсь его сделать. Я пришел издалека, чтобы увидеть дом, двор, сад, колодец около погреба — а теперь, когда до них рукой подать, я не могу войти в ворота. Никогда двор этот не казался мне таким недостижимым. И смутно я уже знаю, что мой следующий шаг, каким бы он ни был, станет моим приговором.
Осторожно, осторожно я ласкаю железную ручку ворот, потом медленно ее поворачиваю и толкаю плечом створку, которая издает тихий знакомый скрежет. Внимание. Ничего. Стою как вкопанный и слушаю: никаких подозрительных звуков. Вперед. Я проскальзываю во двор и всей тяжестью наваливаюсь на закрывшиеся ворота. Ноги подкашиваются, все тело болит, я брежу; сердце колотится отчаянно, лицо горит, я все вижу и не вижу ничего. Двор, наш двор. Семь слоев тьмы не помешают мне видеть. Вещи выстояли все грозы, все события. Все на своем месте. Пустая бочка у входа в погреб, пустое ведро над колодцем, дерево, протянувшее иссохшие ветви к саду за стеной. Стул на крыльце перед кухней. Перед курятником большая миска с водой. Мой взгляд рыщет повсюду, чтобы все унести: отражение ночи в окнах, ропот ветра на крыше сарая, дыханье неподвижного призрака, который наблюдает меня и судит, понимает все и не понимает ничего. Осталось войти в кухню, оттуда в гостиную, потом в спальню.
Я этого не сделал, я не довел исследованье до конца. Меня спасла собака. Она залаяла. Я ожидал чего угодно, только не этого. У нас никогда не было собаки. Мы, еврейские дети, привыкли бояться этих свирепых друзей врага; все они были адовы исчадия и антисемиты.
И я испугался, как когда-то. Я открыл ворота, я выскочил на тротуар, я снова был изгнан. Изгнан собакой, истинной победительницей в этой войне. Я убежал, как когда-то. Я добежал до главной улицы, до площади; и так как у меня не было другого убежища, я рухнул на скамью и схватился за голову. Боль, бешенство, стыд, особенно стыд слепили мне глаза. Понимать больше было нечего.
Вскоре ночь рассеялась. Город открылся навстречу первым лучам, которые посылало ему хрупкое голубое небо. Новый день рождался на вершине горы.
Читать дальше