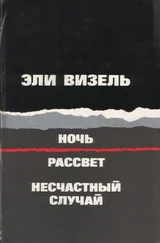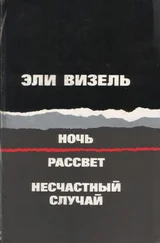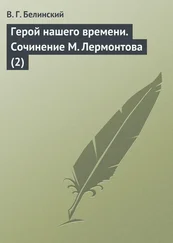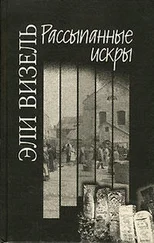Издали я вижу, как пляшущие ставят старика на землю. Они устали, а он нет. Теперь я лучше его вижу. Знакомое лицо. Это тот нищий, или проповедник, которого я знал в детстве. Он узнает меня и делает мне знак. Я отрываю ногу от земли и делаю шаг, потом еще один. И перевожу дух: это не он, это вообще не старый человек. Не Катриэль ли это? Толпа разделяет нас; я стараюсь пробиться сквозь нее, но теряю его из виду. Спрашиваю людей: куда девался высокий стройный человек с горящими глазами? Они не знают. Встревоженный, я кидаюсь к одному, к другому: одни поворачиваются спиной, другие смотрят, ничего не понимая.
А толпа тем временем густеет. Военные, чиновники, журналисты текут снизу длинной процессией, и к ним присоединяются раввины и безбожники со всех концов города, со всех концов страны. Мужчины, женщины, подростки всех возрастов, всевозможного происхождения, говорящие на всех языках, занимающиеся всеми на свете ремеслами — я вижу, как все они поднимаются к Стене, к тому, что осталось от их общей тоски. Как недавно, на Синае, в тот день, когда им была дана Тора. Как когда-то, в царстве ночи, когда ее отобрали у них. Вот и опять происходит великое собирание изгнанников: круг завершен, конец соединяется с началом и оправдывает его. Там, в лагере, тихий и набожный человек в приступе безумия кричал: «Мы все слышали Бога в пустыне; здесь нам дано будет Его увидеть». «Да, — ответили ему, — увидеть Его и погибнуть». Образ Бога нельзя вынести: его можно унести только в смерть.
А здесь рождается образ человека. И, чтобы обрести его, весь народ уже в третий раз двинулся в путь.
Это все тот же народ, и походка у него все та же. Не изменились и декорации. Персонажи меняются с бешеной скоростью: будто кто-то торопливо заслоняет одни картины другими, все более и более старыми. Цари и отшельники, принцы и мятежники смешиваются с раввинами в черном, с солдатами в защитной одежде, со студентами-талмудистами, от восторга не чувствующими под ногами земли. Глаза и руки их полны мечтаний и приношений. Несколько вечностей назад начался их путь, и у них походка людей, твердо решивших сделать своими и свое прошлое и свою судьбу.
Вот этот упрямый, сгорбленный папаша с порыжевшей бородкой: на каком костре, по какому закону он терпел свое мученичество? А этот подросток с круглой спиной — от какого счастья его отвергли? И та девочка, грызущая ногти: в каком гетто, в какую эпоху обрела она такую зрелость, такой опыт? Она идет мелкими шажками, и я спрашиваю себя, почему она не бежит, она должна была бы бегать и расти. Она должна была бы убежать и выжить. Она не бежит потому, что ее держит за руку женщина. У женщины благородная, неторопливая походка. Внезапно я вижу профиль женщины — и сердце мое обрывается. Все начинает кружиться вокруг меня и во мне. Теперь я вижу отчетливо их обеих, обмануться невозможно: у девочки открыт рот, она жадно ловит воздух, ей душно, ей хочется пить, но она ничего не говорит, чтобы не огорчить свою мать, которая и моя мать тоже.
И вот так, то уступая, то сопротивляясь, я окончательно отдаюсь галлюцинациям и вижу друзей, родных и соседей, всех мертвецов со всех кладбищ, вижу все мертвые города с того кладбища, в которое превратилась Европа. Все стали пилигримами, и в этот сумеречный вневременной час наполнили собой Храм, чьим огненным подножием, чьими святителями они стали. Легкие, высокомерные, покинувшие этот мир, они вернулись сюда издалека, очень издалека, поверх крыш и звезд, вернулись из разных времен, от разных очагов для того, чтобы одновременно пережить и воскресение начала и воскресение конца. Ничто не могло их удержать, даже та воля, что сковала Мессию. Ибо нет у них могил, чтобы их удержать, нет кладбищ, чтобы привязать к земле; они спустились с неба, небо их кладбище, а взгляд их — вечность. И ее мрак.
Я смотрю на них и боюсь смотреть, боюсь открыть среди них себя. Тем хуже, я сделаю вид, что ничего не видел. И я смотрю, смотрю без конца. Отец поднимает на плечи сына и велит ему смотреть во все глаза. Пара влюбленных, держась за руки, убыстряет шаг. Две вдовы, наоборот, замедляют. Я стараюсь очнуться: да нет же, ты ошибся в дате, если не в месте. Ты все это видел не в этот день! Хорошо. Ну, и что из этого? Я видел это в другой день, через неделю, или через месяц. Время не имеет значения. Да и не один я видел все это и вижу до сих пор. Вот человек разглядывает толпу, скрестив на груди руки. Теперь я знаю, кто это, и ошибка тут невозможна: это странствующий проповедник, который приносит с собой молчанье, то, которое нужно, туда, куда нужно, и тогда, когда нужно. Он мрачен и суров, он и выше и прямее, чем был при жизни, и он беседует с учеником, который, странное дело, на него похож. «3наешь ли ты, почему Иерусалим был спасен?» — «Нет. Почему?» — «Потому что на этот раз все они — города и местечки, большие и маленькие, сотнями и тысячами, и сотнями тысяч — поднялись на его защиту».
Читать дальше