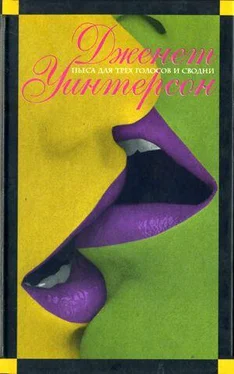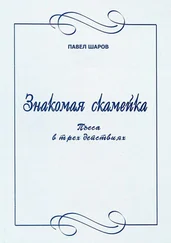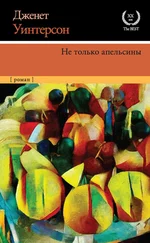Невзирая на страх, я храню талисманы, кручу в ладони гальку. Хранящиеся в памяти камушки, минеральная поверхность которых испещрена золотом.
Осень в лондонском сквере, недвижный воздух, обволакивающий траурный Тис с розовой корой. В листве роется терьер. Тявкающий черный пес и Тис с розовой корой. Пес, Тис, листья платана в рыжевато-бурых кучах и кафе, где дымится кофе.
Я взяла стаканчик, обожглась, но обрадовалась кофе и тому, что у меня есть чем за него заплатить. Обрадовалась картонному пару и месту на этой деревянной скамье.
Мимо проходит женщина – прошла. В фонтане по очереди пьют птицы. Я тоже все делаю по очереди: пью кофе, сижу на скамейке, и то и другое остается, а я нет. Даже сейчас, когда я сознаю мгновенье, оно проходит. Часы не останавливаются, хотя останавливаюсь я (или просто так кажется), цепляюсь за кофе, как за щит против времени. Я хочу идти по скверу медленно, идти все время по этому скверу, чтобы пес тявкал, а траурный Тис оставался с розовой корой.
У Британского музея выстроилась очередь туристов.
Мягкий воздух и твердая тропа. Воздух запутался в чугунной решетке, а тропа утонула в листьях. Старик сгреб их прочь. Во всех лондонских скверах одно и то же: листья, мягкий воздух, на стебли наляпаны последние розы. Мышастый воробей ухватил малинового червяка. Почему такую боль мне причиняет этот давний, безвозвратный день? Больно так, что я замедляю шаг на оживленных улицах, застываю, будто забыла что-то важное? Я действительно забыла что-то важное: как смотреть на картины, на ненаписанную красоту повседневности. Вот это «сейчас», качество, доступное художнику, но видно его всегда, если я захочу его увидеть. Вот это «сейчас», само по себе, не ошеломляющая новизна, но ошеломляющая привычность – увиденная вдруг.
Длинные поезда уходят. Кафедральный купол вокзала раньше принимал фимиам дыма, а теперь приносит в жертву живых голубей, запутавшихся в электрических проводах. Никто не смотрит вверх на почерневших птиц, вычеркнутых напряжением из жизни и оставшихся висеть среди балок. Под мертвыми птицами взад и вперед – пассажиры. Взад и вперед усталые тела, влекомые по невидимым рельсам.
Но снаружи поезд принимается косить косой света. Серп поезда мимоходом сжинает дома, и те исчезают под лунно-металлическим клинком серебряного поезда.
Поезд, дрожащий от собственной силы, как охотничья свора, по сигналу устремляется на мост и расплескивается по рельсам сиреной радости. Из окна высовывается маленький мальчик и ликующе кричит, вторя гудку длинного состава.
Поезд проходит – желтая лента, протянутая по черной ткани. Дома вскакивают снова и занимают законные места под покровом темноты. Там ничего, кроме грязи и кирпичей, грязи и металла, грязи и привычки. Пригородный, 5.45.
Но есть и еще кое-что – красота изгиба, когда поезд выносит приговор повороту; механическая дуга, дающая 180 градусов восторга между твердым металлом и кривой, которую он подразумевает. Простая стычка предмета и стиля живописна сама по себе; бескомпромиссная линия просто обязана уступить кривой. Только это поражение позволяет двигаться вперед.
Эта кривая – как бесконечная вереница дней, неторопливо тянущихся к морю: серебряный поезд к золотому побережью. Длинный виток детских воспоминаний, романтика, не убитая поездом 5.45 [28] Реминисценция из стихотворения английского поэта Редьярда Киплинга (1865–1936) «Королева»: «…романтика меж тем / Водила поезд девять-семь» (пер. А. Оношкович-Яцына).
. Каждый вагон, проходя поворот, членораздельно сообщает об этом следующему – позвонки поезда, бегущего сквозь мое прошлое, как четки. Вереница дней медленно тянется к морю; качается поезд, катится вода. Моя мать улыбается морю.
Улыбки женщин и бесконечное движение вод. Такие сюжеты волновали Леонардо. И то и другое одновременно прозрачно и таинственно, он изображал их на своих картинах как предметы и символы; Мадонна с Весами, Мадонна у Озера, Мадонна в Скалах, Ла Джоконда, Святая Анна, Медуза, чьи змеистые волосы расступаются волнами рептилий, а на мертвых скулах – оттенки моря.
Леонардо, который не знал ни латыни, ни древнегреческого и называл себя человеком неграмотным («ото senza lettere»), любил слова и сражался с ними, получая множество ран. Любовных ран. Не бывает любви, что не пронзала бы руки и ноги. Не бывает любви, что не метила бы любящего. В конце жизни Леонардо, заклейменный словами, бросил живопись и трудился только над своими мимолетными манускриптами, записывая слова справа налево. Кто знает, что он надеялся найти? По-моему, все уже было найдено в ужасном лике Моны Лизы, в развратном кармазине ее губ и щек, ныне выцветшем до стыдливого румянца, который так странно выглядит на фоне моря.
Читать дальше