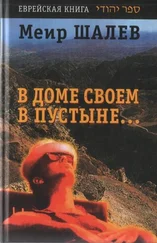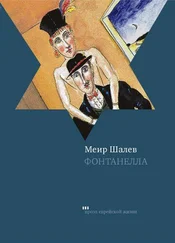Но в одну из суббот случилось, или, лучше сказать, свалилось (сейчас ты поймешь, почему «свалилось»), нечто такое, что даже мне удалось опознать.
В то утро я в очередной раз позанимался с Бринкером и, когда уже шел от него к дому Леи, услышал мягкое жужжанье, приближающееся из-за горизонта. Вскоре в воздухе появился маленький аэроплан и начал кружить над поселком. Шли последние дни войны, и итальянский налет на Тель-Авив еще не изгладился из памяти людей, но этот аэроплан излучал такое простодушие и дружелюбие, что все выбежали из домов и глядели на него с улыбкой. Несколько минут он летал над поселком, слегка покачиваясь, точно бабочка, несомая теплым воздухом, и наконец уронил из своего брюха черную точку, которая с грохотом взорвалась в одном из садов, взметнула огромную стену комьев, листьев, черепков и груш и вырыла глубокую воронку в земле. Аэроплан спокойно удалился, сделал большой круг, но на сей раз изменил своим привычкам и понесся к центру поселка, как намеренно и точно направленная стрела.
Люди бросились во все стороны, попадали, распластались на земле, прикрывая голову руками, но аэроплан, со свойственным всему летающему безразличием, невозмутимо перевернулся в воздухе, медленно спланировал на поле и там с почти неслышным треском развалился на куски и вспыхнул. Когда мы подбежали, он уже весь был охвачен пламенем и из кабины слышались крики: «Антонелла! Антонелла! Антонелла! Антонелла!»
Несчастный летчик весь обгорел и был при смерти. Шелковый платок на его шее превратился в паутину из пепла, кожаный шлем сплавился с костями черепа, летная куртка выглядела, как сожженная бумага. Люди вытащили его из кабины, а Ихиель Абрамсон взволнованно присел рядом, вытащил из кармана блокнот и карандаш и заполнил четыре страницы подряд именем «Антонелла», которое с каждым разом становилось все слабее и бледнее. Сначала смазалось «Т», потом растворились оба «Н», а длинное «Ааа… боли» слышалось до тех пор, пока душа летчика не отлетела с последним «Ллл… любви» — таким захлебывающимся и протяжным, что, будь оно написано на спине Леи, оно наполнило бы ее бесконечным восторгом.
Огонь погас, обугленная голова умолкла.
— У него была ужасная смерть, — печально сказала мать. — Как у людей-ангелов.
Прибыли английские военные, забрали останки летчика и аэроплана, измерили, сфотографировали, задали вопросы и уехали. Люди в поселке еще несколько недель вспоминали о странном происшествии. Но, как и эксперты британской королевской авиации, они тоже не понимали итальянского. Я же, специалист по языкам, тогда же понял всё. Пикируя на поселок — вот что сказал летчик, — он был внезапно ослеплен болью тоски по возлюбленной и потерял контроль над дросселем и рулем. Это давнее зеркало Якова, возродившись к жизни, выстрелило в него своим слепящим лучом.
Я не рассказал об этом никому, и, уж конечно, не Лее. Еще через несколько недель война кончилась, в саду были посажены новые грушевые деревья, и летчик был забыт. Но время от времени я слышал, как мать шепчет «Антонелл», повторяя их с самыми разными ударениями, будто желая понять секрет, скрытый в согласных этого имени, с которыми было связано так много любви.
Наступили веселые, забавные дни. Наш Ихиель попал в ту же ловушку, которую судьба готовит многим, заразившимся собирательством: чрезмерный пыл лишает их трезвости суждений, — и теперь мы с Леей заполняли его блокноты никогда не произнесенными последними словами, которые принадлежали никогда не существовавшим знаменитым покойникам. Правда, Ихиель, подобно алчной жене рыбака, потребовал было свести его с отцом, дабы получать его милостивые дары без посредников, но я заявил ему, что отец видит в этих последних словах семейные тайны и передает их по наследству одному лишь мне, а потому недопустимо, чтобы он узнал, что я выдаю эти тайны посторонним.
Сгибаясь от смеха, падая друг другу в объятья, перекатываясь по колкой мозаике, мы выдумывали аргентинского поэта, уроженца Александрии Хосе Исмаила Ньенте, который сказал: «Дорога была такой длинной, и я блуждал по ней в одиночестве», и Читру Гриву, главу гильдии голубятников Калькутты и автора слов: «Настоящая смерть предпочтительнее смерти при жизни», и шведского военачальника Густава Бризона из Фалуна, этого бравого («Седовласого», — добавила Лея) солдата, который, лежа на своем запятнанном кровью матраце («В туберкулезной лечебнице», — добавила Лея), вытащил, улыбнувшись, руку из-под («Накрахмаленной», — добавила Лея) юбки («Рыжеволосой», — добавила Лея) медсестры и слабо, но внятно произнес: «Эта война — самая легкая из всех» («Перед тем, как навечно закрыть свой единственный глаз», — добавила Лея.)
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу