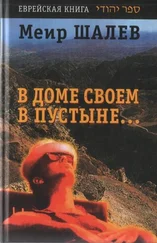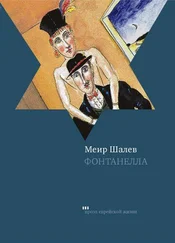Их жены, маленькие и красивые, держали кружевные платочки в левой руке. Их дети, смуглые и послушные, были все как один в белых полуботинках, купленных в честь события, и все как один причесаны на правую сторону. Они привезли Михаэлю расшитые кемизикас [97] Кемизикас — мн. от «кемизика»: маленькая кофточка, рубашонка ( ладино ).
, престарелого йеменского моэля и большие свертки тиспишти [98] Тиспишти — турецкие печеные сладости из манной крупы и меда ( тур. ).
и медовиков, которые так обрадовали нашего отца, что он тут же подозвал Роми и шепотом приказал ей спрятать все это под его кроватью, чтобы «эти русские» не съели долсурас [99] Долсурас — сладости ( ладино ).
.
«Русские» приехали из Галилеи вереницей грузовиков для перевозки скота, и машины стонали под тяжестью их тел. То были добродушные и стеснительные люди. Их квадратные зубы белели в улыбках. Волосинки бровей шевелились на ветру, как длинные усики созревших пшеничных колосьев. Они тоже успели уже побывать на кладбище, негромко поговорить над памятниками и смахнуть с могилы своей сестры камешки, возложенные семейством Леви, сразу же опознав, что это не обломки здешнего базальта, а заговорные камни, нарочно привезенные из иерусалимского бассейна Шилоах, ибо при всей своей малости они были тяжелы, как свинцовые слитки. «Русские» привезли с собой охлажденные горшки с кумысом и кефиром, головы кисловатого сыра и очень красивую деревянную колыбель. Один за другим они подходили к Якову, мяли его в своих объятиях и трижды звучно лобызали в щеки, а потом медленно, степенно кивали всем собравшимся своими большими головами. С заученной осторожностью сильных людей пожимали протянутые им руки и похлопывали по испуганным плечам.
Под конец они с любопытством и симпатией окружили старую Дудуч, что, сидя на табуретке, кормила грудью Михаэля. Но когда они начали перешептываться и показывать пальцами, у Шимона потемнело лицо. Низкорослый и плотный, мрачный и тяжелый, он повернулся к ним со специально приготовленной вежливой фразой: «Ну, хватит, тут вам не представление!» — а затем, поторопив свою мать подняться, увел ее в дом.
И вдруг, в разгар благословений моэля, среди приглашенных воцарилась мертвая тишина. Это Яков, приставив ящик к стене дома, забрался на него и широко распахнул деревянные ставни на окнах комнаты Леи. Никто не спрашивал, что это означает, но в толпе прошел шепоток, и некоторые женщины промокнули покрасневшие веки. Все поняли отчаяние и надежду моего брата — что крик обрезаемого младенца, проникнув сквозь распахнутое окно, пробудит мать ото сна и вернет ее в круг живых. Ведь всем известно, что страдальческий плач младенца — самый всепроникающий и пробуждающий звук в мире. Но вот — благословения уже произнесены, пеленка приподнята, крайняя плоть отрезана — и о ужас! — младенец не закричал.
Уши, приготовившиеся услышать вопль боли, услышали одно лишь тонкое посвистывание тишины. Глаза, широко раскрывшиеся, чтобы увидеть явление проснувшейся матери в позолоченной солнцем раме окна, зажмурились и потекли слезами. Лица омрачились. Отказ Михаэля возвысить голос в плаче обрезания ранил их много глубже, чем они ожидали. В этом была насмешка над традицией и нарушение обычая. Словно этот младенец возвещал им: «Не будет моей доли с вами». Словно он дезертировал из-под общего ярма страданий.
Только Дудуч была счастлива. Ей было все равно, плакал ребенок или нет. Она снова взяла его на руки, и кормила, пока он не насытился, и барабанила подушечками пальцев меж его лопатками, пока он не отрыгнул, и все это время напевала ему свои мягкие бессловесные воркования. К этому времени она уже выкормила множество детей, но ни один из них не наполнял ее такой мягкой и сладкой тяжестью, как этот ребенок. В его тельце таился некий магнит, который притягивал и извлекал из каждого все лучшее, заключенное в нем, — любовь и молоко, слезу и улыбку. Вечером, тающая от удовольствия, она принесла его в спальню Якова, положила в новую колыбель, поцеловала в обе щеки и вышла из комнаты. Михаэль лежал с широко открытыми глазами, не засыпал и не плакал. В конце концов Яков не выдержал, взял сына на руки, положил в свою кровать и, приложив ухо к его животику, стал прислушиваться к поступи неощущаемой боли. И оба они уснули.
Так я несся навстречу своей судьбе, подобно одному из тех гонимых в загон оленей из отцовских рассказов о пустыне. Отказываясь глянуть вперед, не извлекая уроков из прошлого, глухой и упрямый фараон любви. Я принадлежу к той породе людей, которые опознают пророчество лишь после его свершения, и, подобно Элиягу Саломо и князю Антону, я тоже не сумел прочитать предостерегающие знаки. Помню, как я сказал Лее, что в тот день, когда мы кончим складывать мозаику, Яков вернется и заберет ее у меня. На что Лея заметила, и вполне справедливо, что я абсолютный болван, и добавила, что нам все равно никогда не удастся заново сложить эту дурацкую мозаику. И в самом деле — всякий раз, когда нам казалось, что мы ее сложили, мы звали Ихиеля, и он приходил, обходил вокруг этой девушки, вокруг этой Алисы Фребом своей любви, и заявлял, что ее косоглазие все еще не вернулось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу