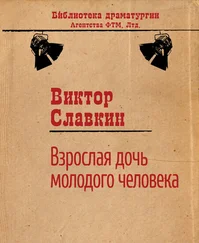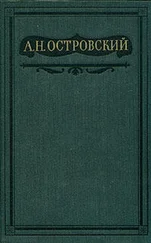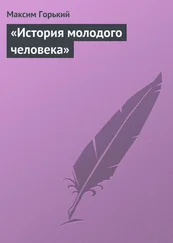Я зажег свет, развернул газету, включил телевизор. Вынул из холодильника кока-колу, отпил из бутылки. Залаяла Венера — то ли на кого-то, то ли от голода. Я открыл дверь, впустил ее, накормил. Теперь она спит у моих ног, свернувшись калачиком, похожая на тучную, обросшую шерстью змею. Иногда заворчит во сне, шевельнет лапой, поведет мордой. Наверное, ей снится что-нибудь плохое.
Пустой дом никогда не бывает безмолвен, особенно если он трехэтажный и стоит на берегу моря. Поскрипывают половицы, к далекому, неумолчному шуму волн, ложащихся на песок подобно изнемогшим пловцам, примешиваются голоса и смех отдыхающих. Когда не хочется читать или разговаривать с самим собой, можно бегать из комнаты в комнату и кричать: «Руки вверх!»; первые пять секунд страшно, следующие десять секунд не скучно, а еще пять секунд уходят на то, чтобы вернуться в прежнее состояние. Но сегодня вечером мне не поверить в призраки, не преследовать с воплем воображаемых грабителей: то удовольствие, которое я обычно получаю от этих глупых игр одинокого молодого человека, улетучилось бы под натиском невеселых мыслей, лезущих в голову, и неприятных обстоятельств, которые они предваряют и предвещают.
Дневник в какой-то степени последнее защитное средство против этих мыслей.
Зовут меня Эрик, Эрик Корона. Я высокий молодой человек, красивый и одинокий. Нормандец, несмотря на скандинавское имя и латинские глаза-уголья с длинными ресницами. В этом году я получил аттестат зрелости с отметкой «отлично», по нисколько этим не горжусь: презираю всякие дипломы.
Мне нравится повторять, что я не люблю жизнь, а предпочитаю выгуливать свою собаку. В этой шутке есть доля правды. А вот какова она, эта доля, не знаю. Примерно пятьдесят на пятьдесят.
Зазвонил телефон, дневник пришлось отложить. Звонила Катрин Гольдберг из Парижа, предупредила, что будет в Вилле не первого (то есть завтра), а третьего. Ровный, хрипловатый голос. Время от времени глупое кудахтанье.
Положив трубку, я развернул длинный лист бумаги, где отец записал все имена, которые я должен буду с улыбкой произнести завтра утром: Дениза и Одиль Телье, Паскаль Март, Мишель и Франсуаза Грасс, Катрин Гольдберг… Напротив имени Катрин Гольдберг я поставил цифру 3 и сложил листок. Разбуженная телефонным звонком Венера подошла, потерлась о мои колени, покружила по комнате и вновь улеглась. Я гляжу на нее. Она не спит.
Глядит на меня.
Дневник Одиль
Вильмонбль, 31 июля
Шестнадцать лет — подходящий возраст, чтобы начать дневник. Прежде всего потому, что тебе уже не пятнадцать и на твоем пути попадаются уже не только мальчишки и сатиры, но и мужчины. Кроме того, время разной чепухи прошло, настало время душевных переживаний. А с мужчинами и душевными переживаниями начинается настоящая жизнь.
А что может быть лучше для дневника, чем настоящая жизнь? Есть о чем писать.
Я пишу, лежа в своей кровати в виде ладьи. В открытое окно ярко светит солнце. На ночном столике лежит мой транзистор, пачка «Голуаз» и стакан апельсинового сока, который мама принесла мне перед тем, как спуститься в лавку. Как всегда по утрам, она поцеловала меня в лоб, обозвала лентяйкой и баловницей, а я, как всегда, потянулась, зевнула и сказала, что каникулы — это чудесно.
Когда люди любят друг друга, но не умеют или не хотят сказать об этом, или просто не желают злоупотреблять этим, они прибегают к помощи подобного ритуала, чтобы так или иначе дать выход своим чувствам. Немного глупо и смешно, но щадит некую природную стыдливость, которая должна иметь право на существование, раз уж она существует.
Как бы то ни было, сегодня в утреннем ритуале было отклонение: мама поздравила меня с днем рождения и вручила подарок — воздушную юбку в цветах в цыганском стиле, которая прекрасно подойдет к моей вышитой блузке. Я поблагодарила маму, тут же вскочила, сняла пижамные брюки и надела обнову. Затем бросилась к платяному шкафу за блузкой. Ее там не оказалось. Продолжая тщетно рыться в стопках своих вещей, я спросила маму, куда она ее положила. Мама ответила, что блузка в грязном белье, она выстирает ее после обеда и я смогу взять ее с собой в Нормандию.
Голос плачущего человека узнаешь без труда. Я обернулась. Мама сидела, подавшись вперед, одной рукой закрывая глаза, а другой уцепившись за кровать, словно боясь упасть. Она положила ногу на ногу, и эта не очень домашняя поза, которую принимают во время ничего не значащих светских бесед, казалось, принадлежит другому человеку, не тому, которого я видела перед собой — согбенному, с трясущимися руками. А так как в напряженных или драматических ситуациях часто возникают неуместные мысли, которые могут показаться даже ужасными, мне тут же пришло в голову, что у мамы красивые для женщины ее возраста колени. Мне захотелось сказать ей, что с ее коленями я никогда не испытывала бы потребности плакать, но в эту минуту, сопоставив в уме кое-что, поняла, почему она плачет, и промолчала.
Читать дальше