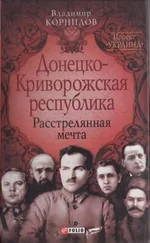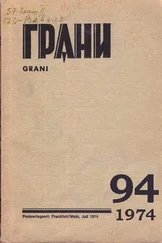— Может, и гроши, — кивнул художник. — Но ведь цены нет. Выставком у меня ничего не берет. Ее глядели, тоже не взяли. Мерзлячка какая-то, говорят. Меня не балуют в МОСХе.
— А вы бы хотели?
— Конечно. Надоело сидеть взаперти.
— А вы себе цены без них на знаете? На чёрта вам начальство?
— Может быть, знаю, а может, нет. День на день нe приходится. Анахоретом жить трудно… Надо, чтобы глядели, ругали, пусть, но видели, что ты делаешь. А те, что таскаются сюда и хвалят, тем цена невелика. Раз уж пришли, то непременно хвалить будут. Хотя бы из вежливости.
— Вы просто не в настроении, — начал волноваться Курчев. — Вы же художник. Я ни черта не смыслю в живописи, но, по мне, вы — замечательный художник. Да и на чёрта вам всеобщая ругань или всеобщее одобрение? Да будь я живописцем, я бы Бога благодарил. Чего лучше? Сиди себе в углу и рисуй, и плюй на все.
— Ну, а вы сочиняйте рефераты.
— Не то. Ключевский писал, что если мы не знаем последствий каких-либо преобразований, то мы не можем делать их предметом исторического изучения. А меня, как на зло, интересует только современность. Собачий характер. Сам хочу сидеть в погребе, но писать о том, что творится на поверхности. Противоречие?
— Нет, не особенно, — с интересом поглядел на него художник. — В погребе? Это вы ничего сказали. Холодно только. И одиноко. Значит, зарыться решились?
— Что-то вроде. Если духу хватит. Я потому к вам и пришел, поглядеть, как это получается. Но художникам легче. Они при вечности. А меня сегодняшнее мучает. Но все равно не думал, что так здорово, — он снова повернулся к холстам. — Я, знаете, обклеил две недели назад комнату нарочно потолочными обоями. Надеялся, вдруг придете и чего-нибудь нарисуете… А теперь вижу…
— Не в том дело, — улыбнулся хозяин. — Я бы с великим удовольствием. Только не могу. Не умею.
— Как? — не понял Курчев.
— Да так. Не умею — и все. Если б умел, у меня бы мастерская была, а не льдина-холодина.
— И спичечного коробка нарисовать не можете?
— Нет.
— А как же эти? — кивнул Борис на нижний холст.
— Эти могу. Эти вижу. У меня глаз другой. Простите, устал… Мне идти надо, — вдруг разволновался хозяин.
Борис встал с табурета, подождал, пока художник снимет со стен и уберет в кухоньку работы, и вышел вместе с ним на улицу. Ингиного портрета он, как следует, не рассмотрел. Разговора не вышло и все, как прежде, предстояло решать самому.
Василий Митрофанович не лежал в больнице, как сказал Инге доцент. Вернее, в больнице он лежал, но к воскресенью был уже (правда, временно) выписан и отправлен на поправку под Москву в один из самых шикарных закрытых санаториев. Наверху еще не решили, увольнять ли В. М. Сеничкина по чистой на пенсию или переводить на другую, менее почетную должность. И оттого, что не поступило высшего указания, в «Кремлевке» врачи никак не могли определить степень болезни Василия Митрофановича. Давление у него поднималось, но не катастрофически. С таким давлением можно руководить и руководить, но спускаться вниз с такими показателями было обидно.
Для себя Василий Митрофанович твердо решил уходить по чистой. Он не то чтобы устал. Просто ему все зверски надоело. Надоело дрожать и волноваться, надоело выискивать лазейки и давить на связи, надоело, наконец, надеяться. Да и домашние дела надоели. Жена считала, что пенсия Васю погубит. Дочка фордыбачила, считая, что уволенный министр не пробьет ее в институт. Один Алешка, занятый своими семейными неурядицами, сочувствовал отцу, но из его сочувствия, как всегда, шубы сшить не удавалось. И, слоняясь по санаторному парку, Василий Митрофанович чувствовал себя одиноким и заброшенным.
А между тем грело солнце, выбивалась на клумбах редкая зеленая травка, и как раз время было рыхлить в саду землю, а чуть позже вскапывать огород под огурцы и картофель. Бродя по аллеям, Сеничкин-старший переживал, что его зря тут держат, что самые золотые дни уходят зря. Дали бы пенсию и прогнали, и он бы тут же уехал на Оку, отремонтировал материнский дом, покрасил бы лодку. Но, поворачивая к главному корпусу, он вдруг с ожесточением вспоминал, что материнский дом давно продан, что дача у него казенная и, если его сейчас, до мая, выпрут, то летом семье придется торчать в Москве или снимать за большие деньги комнату с террасой у частников. Он не говорил об этом с Ольгой Витальевной, но знал, она надеется, что проволынят до лета. Она молится об этом, потому что Надьке после тяжелой для нее зимы (а проще говоря — аборта) и в предвиденье полутора десятков экзаменов — на аттестат зрелости и в институт — просто необходимо в последний раз воспользоваться совминовскими благами.
Читать дальше