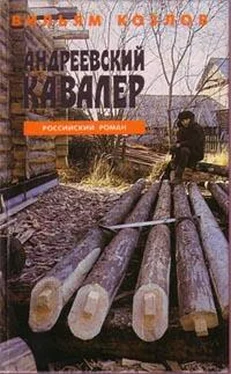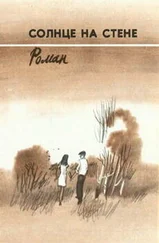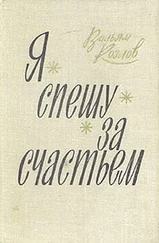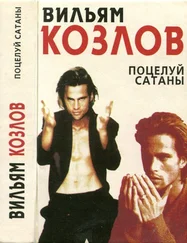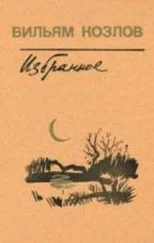— А в университете меня считали недотрогой, я целовалась-то всего два раза. Ты не можешь взять меня с собой, я понимаю… — Она впервые назвала его на «ты». — Останься сегодня… — Последние слова прошелестели совсем тихо.
Он с изумлением посмотрел на нее. Она побледнела, губы едва заметно вздрагивали, она боялась взглянуть на него.
— Ты уйдешь, а я останусь, — тихо продолжала она. — И что со мной будет? Я тут для всех чужая, а для них… Это же звери! Боже, почему я не умерла вместе с дедушкой?
— Есть же на свете хорошие люди, приютят, — испытывая щемящую жалость, обронил он.
Она не откликнулась.
— Ну вот что, Василиса Прекрасная, — неожиданно для себя сказал он. — Для нас с тобой ночь то же самое, что для других день. Если идти, так идти, — и грубовато приподнял ее с земли.
Горячие губы на миг неумело прижались к его губам.
— Теперь я знаю, куда нам идти… — скорее для себя сказал Кузнецов, подумав, что ее губы пахнут парным молоком. И еще он подумал, что никогда не простил бы себе, если бы оставил в лесу Василису Прекрасную.
Столица третьего рейха скоро наскучила Ростиславу Евгеньевичу Карнакову. Уже неделю он жил в центре Берлина, в фешенебельном номере гостиницы без названия, на фасаде остались лишь две гипсовые готические буквы: «V» и «S». В основном здесь останавливались военные чины, по утрам к парадному входу подкатывали черные «мерседесы», «оппели», «хорьхи», шоферы в форме предупредительно распахивали дверцы и отдавали честь. В машины садились не только офицеры вермахта и полицейские чины, но и люди в гражданском, однако с военной выправкой. В распоряжении Карнакова был зеленый «оппель» Бруно Бохова. Старший сын почти неотлучно всю эту неделю был с ним. Они о многом переговорили, бродя по городу.
Последний раз Ростислав Евгеньевич был в Берлине в 1914 году. Многое тут изменилось с тех пор. Незнакомый, угрюмый город. Они прошли пешком всю длинную Унтер-ден-Линден с конной статуей прусского короля Фридриха II, посмотрели на парад гитлерюгенда на Темпельюфском поле, побродили по Тиргартену, где в Аллее Победы уныло взирали на отдыхающих уродливые позеленевшие скульптуры германских королей. Бруно даже привел его в «Айспаласт» — увеселительное заведение. В этот час в прокуренном зале за крепкими черными столами, с пивными кружками в руках, сидели в основном пожилые люди в черном.
Вечером в театре они слушали оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин».
Или отвык от оперного искусства Карнаков — последний раз он был в Ленинграде в Мариинке вместе с Александрой Волоковой задолго до войны, — или напыщенная торжественность оперы, ловко приспособленной к прославлению идей национал-социализма, утомила его, только досидеть до конца у него едва хватило терпения.
— Можно подумать, что Вагнер написал этого «Лоэнгрина» специально по заказу доктора Геббельса, — заметил он.
— Кайзер Вильгельм Второй как-то сказал: «Театр — тоже оружие», — покосившись на толстяка, сидевшего слева от них, по-немецки ответил Бруно.
Сын проводил его из театра до гостиницы без названия. Прощальный ужин был устроен вчера, Бруно с женой принимали отца у себя дома. Худенькая большеглазая блондинка Густа приготовила жареную утку с запеченной картошкой, бобовый салат, на столе выстроились бутылки с пивом, шнапс, а вот черного хлеба не было, да и в ресторанах чаще подавали белый. Двое внуков смотрели на деда большими, как у матери, глазами, по-русски ни один из них не знал ни слова. Их познакомили с дедушкой и отправили спать. Линда и Макс вежливо пожелали всем спокойной ночи и ушли.
— Что же их не научили русскому? — спросил Карнаков.
— Русский язык нынче не пользуется популярностью в наших школах, так же как, наверное, в России немецкий, — сказал Бруно.
— Впрочем, зачем? — раздумчиво провожая взглядом аккуратно одетых мальчика и девочку, проговорил Ростислав Евгеньевич. — В них и русского-то с гулькин нос…
Сейчас, шагая по вестибюлю гостиницы, он почему-то вспомнил об этом.
Двое военных, спускаясь по лестнице, внимательно посмотрели на них. Оба высокие, в кителях армейских офицеров с Железными крестами, они шагали в ногу, прямо.
— У вас тут, в Германии, редко смеются, — заметил Карнаков. Это ему сразу по приезде сюда бросилось в глаза. На улицах не услышишь веселого смеха, даже в театре, в фойе, немцы держались степенно, строго, и не слышно было гула голосов, который обычно сопровождает двигающихся по залу людей. — Это что, национальная черта?
Читать дальше