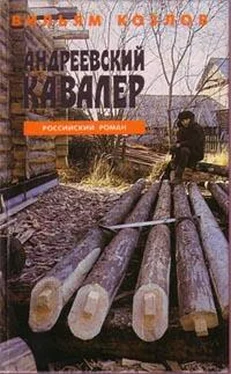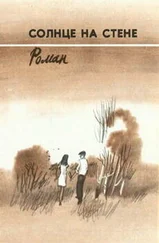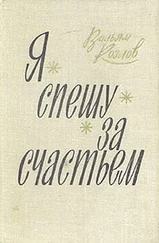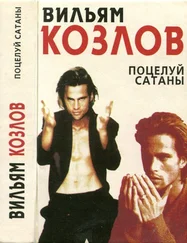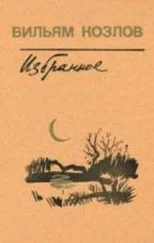— Коли не любишь, не женись, — прошептала она, ее горячая слеза обожгла ему руку. — Ты не думай, что я… Сам знаешь, ты у меня первый. И не думай, что я нарочно. Я уже бегала к бабке Сове…
— И что она? — встрепенулся Дмитрий и тут же устыдился самого себя: обрадовался, что Шура бегала к местной знахарке.
— Поздно, говорит, все сроки пропустила-а… — снова зашлась в плаче Шура. — Ой, не любишь ты меня! Чего тогда глаза прячешь? Не маленький, мог бы и обо мне подумать.
— Ну ладно, — отмахнулся он. — Любишь — не любишь. Почему не люблю? С чего ты взяла? Кроме тебя, у меня никого нету! — Он старался говорить бодро и не мог. — Да что толковать?.. Раз такое дело, женюсь. А что? Мне уже девятнадцать скоро. Надо же все равно когда-нибудь жениться?..
Неожиданно резким движением рук Шура оттолкнула его, глаза заледенели.
— Не пойду за тебя! — крикнула она. — Лучше в прорубь! — И, отбросив крючок, выбежала за дверь.
Он было, рванулся вслед, но на пороге остановился. Вернулся к письменному столу, поднял с полу скомканный носовой платок и невидяще уставился в окно, где прочно высился их, абросимовский дом — пять изукрашенных морозом окон. На коньке дома метель намела сугроб, напоминающий петушиный гребень. По наезженной дороге проехали на санях, слышался тягучий скрип полозьев. Закутанный в тулуп возница полулежал в санях, вожжи были переброшены через руку. Унылый скрип полозьев скоро затих. Другой звук проник в комнату: далекий сиплый гудок, будто у паровоза заморозило глотку, легкое металлическое постукивание колес, чуть ощутимое колебание пола под ногами. На станцию прибывал состав.
Дмитрий встал, надел полушубок, висевший за шкафом в углу, нахлобучил овчинную шапку и вышел в сени. От распахнутой двери задом к нему с мокрой тряпкой в руках пятилась уборщица тетя Паня.
— Запирать двери-то, Митя? — с оханьем разогнув затекшую спину, спросила она. В полупустых невыразительных глазах вроде усмешка — наверное, видела, как Шура выбежала.
Шагая в валенках по мокрому полу, Дмитрий бросил на ходу:
— Погоди дежурного.
Морозный воздух защекотал ноздри, где-то близко залаяла собака. Под валенками яростно, будто не желая отпускать, заскрипел снег. Открывая изнутри калитку, Дмитрий невесело подумал: «Вот и отгулял на воле, друг… Никуда не денешься — суй свою буйную голову в хомут!..»
Шел 1925 год Залютели февральские морозы в Апдреевке. Во второй половине короткого зимнею дня все пронзительнее визжал снег под ногами, резко пощипывало уши, рано на чистом, будто стеклянном, небе высыпали звезды. Ребятишки с ледяными досками возвращались с горки домой, их тонкие, веселые голоса, смех долго еще разносились по поселку. К ночи мороз заплетал мудреными узорами окна домов, будто вставшей дыбом белой шерстью окутывал каждую голую ветку, иголки на соснах и елях посверкивали тусклым серебром. Нет-нет в ночи раздавался протяжный мелодичный звук, словно кто-то невидимый щипнул струну балалайки — это внутри ядреных избяных бревен лопалась омертвевшая жила.
Милиционер Егор Евдокимович Прокофьев без пяти минут двенадцать вышел из пропахшего карболкой здания вокзала, за ним потянулись с узлами и баулами на стылый перрон редкие в эту пору пассажиры. С визгом захлопали высокие двери. Прибывал пассажирский. Позже всех появился на перроне дежурный. На согнутой кренделем руке покачивался металлический жезл. Дежурный ежился в форменной шинели, отворачивал от ветра лицо, переступал с ноги на ногу.
Пассажирский грохотал колесами, тяжело отдуваясь, пускал пары. Дежурный ловко поймал протянутый машинистом жезл. В окнах вагонов были видны свечные фонари, желтый рассеянный свет освещал на полках смутные фигуры пассажиров, завернувшихся в одинаковые полосатые одеяла. Проводники с фонарями у ног стояли в тамбурах.
Прокофьев прошелся вдоль вагонов, местные, предъявив билеты, поднимались в тамбур. Сошли всего три пассажира. Двоих Егор Евдокимович хорошо знал. Петр Корнилов ездил погостить к старшему сыну в Ленинград, а старик Топтыгин был в Климове, продавал на базаре свинину — он на рождество здоровенного борова заколол. Мог бы продать и Якову, но, видно, захотелось заработать побольше: Супронович односельчанам лишнего не переплатит.
Третий пассажир явно был нездешний. В добротном темном пальто, подбитом овчиной, справной меховой шапке и белых бурках, он небрежно покачивал деревянным чемоданом с поблескивающими медными уголками. На вид лет тридцать пять — сорок. Может, какой уездный начальник? Незнакомец подошел к дверям вокзала, поставил чемодан на снег, полез в карман за папиросами. Огонек от спички выхватил светлую бровь, выпуклый, чуть прищуренный глаз.
Читать дальше