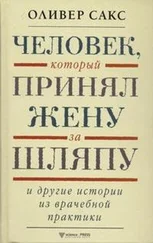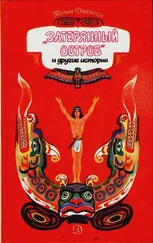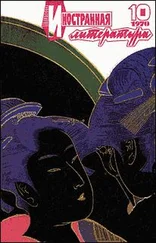И снова мне (отрывок): «…не подумай, что я от тебя отдалилась или перестала доверять. Или что решила тебя отвергнуть. Но, когда боишься жить один, живется очень плохо».
В письме к другому, не ко мне, она позволила себе лирическое тремоло:
«Дон Педро д’Альфарубейра со своими четырьмя дромадерами обошел весь мир и восхищался им. Он сделал то, о чем я лишь мечтаю. Было б у меня три дромадера! Или хотя бы два! Видишь, это я оседлала своего конька. Я смотрю на мир, на все его чудеса. Вот так я всегда и хотела провести свою единственную и неповторимую жизнь. Но при этом я все же хочу быть на связи.
Да-да, хочу быть. На связи.
С тобой. И с тобой тоже».
«Порадую вас известием, батюшка, — добавляет Евгений, — что с игорными долгами я расплатился». По его замыслу, это должно прозвучать саркастически, но на поверку он пытается задобрить старика. К чему это все, ну к чему? Неужто он опять ищет отцовского одобрения? Эту часть, где несостоявшийся поэт объясняет, что жизнь его вовсе не потрачена зря, надо исполнять в темпе presto , в стиле записки с вызовом на дуэль.
На самом деле в падающем самолете пишет еще один пассажир — четырнадцатилетняя девочка, возвращающаяся в Токио из Осаки, где она гостила у тети и отлично провела выходные на спектаклях «Такарацука». Она как раз начинает писать тете благодарное письмо, когда пилот делает первое хриплое объявление. Девочка на мгновение отрывает ручку от бумаги, вздрагивает и продолжает писать, но совсем не то, что хотела: «Я боюсь. Я боюсь. Помогите. Помогите. Помогите».
Буквы неразборчивые. Ее письмо так и не найдут.
Вот тайник со старыми письмами. Старыми листами… я собиралась взяться перечитать их. Это от моего бывшего мужа. Мы прожили с ним семь лет и поскольку не собирались расставаться, то устроили мне годичный отпуск для научной работы, я получила оксфордскую стипендию, и мы расстались на целый учебный год, но каждый день отсылали друг другу письма в синих конвертах авиапочты. Пользоваться трансатлантической телефонной связью только для того, чтобы пообщаться, в те дни никому бы и в голову не пришло, так давно это было. Мы были бедны, он был скуп. Я мало-помалу отдалялась, начинала понимать, что могу жить и без него. Но все равно писала ему — каждый вечер. Днем я сочиняла очередное письмо; в мыслях я постоянно с ним разговаривала. Понимаете, я так к нему привыкла ! С ним я чувствовала себя защищенной. Я не ощущала себя отдельной личностью. Что бы я ни увидела, когда его не было рядом, даже если мы расстались всего час назад, первая моя мысль неизменно была о том, как я буду ему об этом рассказывать. А мы обычно не расставались больше чем на несколько часов — только на то время, пока он ходил преподавать, а я учиться. Мы были ненасытны. Случалось, у меня мочевой пузырь чуть не лопался, а я никак не могла прерваться или перебить его; и тогда он провожал меня в туалет, продолжая разговор. Возвращаясь за полночь с вечеринки, как в те степенные времена академики именовали свои собрания, мы порой просиживали в машине до рассвета, забывая подняться в квартиру, — так увлекательно было обсуждать с ним его несносных коллег. Столько лет этой исступленной дружеской болтовни! И втрое больше времени — с тех пор, как все это кончилось. Интересно, сохранил ли он мои письма? Или бросил их в камин, чтобы лучше поладить со своей второй женой? Целый год после развода я просыпалась по утрам с дурацкой улыбкой — от удивления, от облегчения, от сознания того, что я ему больше не жена. С тех пор я ни с кем не чувствовала себя такой защищенной. Я не перечитываю его писем, не могу. Но мне необходимо знать, что они здесь — в шкафу, в коробке из-под обуви. Они — часть моей жизни, моей мертвой жизни.
Акт 1, сцена 2
«Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селенья я никогда не знала б вас, не знала б горького мученья. Души неопытной волненья смирив со временем (как знать?), по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать». Чувство Татьяны неоспоримо. Но как может оно зажечь ответное чувство в другой груди? Каковы здесь законы возгорания? Татьяна может лишь говорить о своем чувстве — неоспоримо ее собственном, хоть и пришедшем к ней из столь любимых ею слезливых любовных романов. О неповторимости. «Другой!.. Нет, никому на свете не отдала бы сердца я! То в вышнем суждено совете… То воля неба: я твоя. Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой; я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой…»
Читать дальше