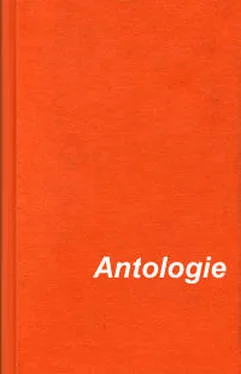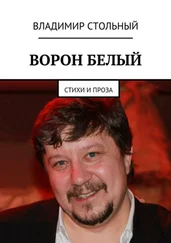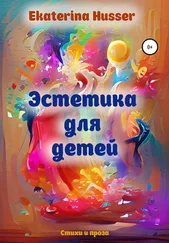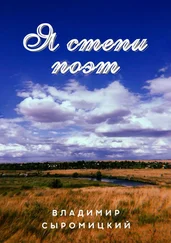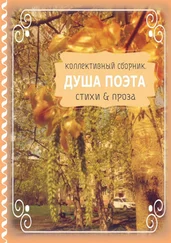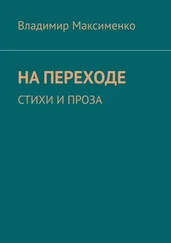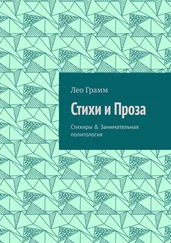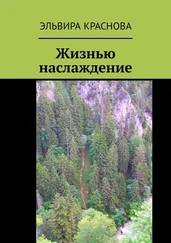Но не совершенно ли уже помимо нас это дело всемирного просветления? Природная красота уже облекла мир своим лучезарным покрывалом, безобразный хаос бессильно шевелится под стройным образом космоса и не может сбросить его с себя ни в беспредельном просторе небесных светил, ни в тесном круге земных организмов. Не должно ли наше искусство заботиться только о том, чтобы облечь в красоту одни человеческие отношения, воплотить в ощутительных образах истинный смысл человеческой жизни? Но в природе темные силы только побеждены, а не убеждены всемирным смыслом, самая эта победа есть поверхностная и неполная, и красота природы есть именно только покрывало, наброшенное на злую жизнь, а не преображение этой жизни. Поэтому‑то человек с его разумным сознанием должен быть не только целью природного процесса, но и средством для обратного, более глубокого и полного воздействия на природу со стороны идеального начала. Мы знаем, что реализация этого начала уже в самой природе имеет различные степени глубины, причем всякому углублению положительной стороны соответствует и углубление, внутреннее усиление отрицательной. Если в неорганическом веществе дурное начало действует только как тяжесть и косность, то в мире органическом оно проявляется уже как смерть и разложение (причем и тут безобразие не так явно торжествует в разрушении растений, как в смерти и разложении животных, и между ними у высших более, чем у низших), а в человеке оно кроме более сложного и усиленного своего проявления с физической стороны выражает еще и свою глубочайшую сущность как нравственное зло. Но тут же и возможность окончательного над ним торжества и совершенного воплощения этого торжества в красоте нетленной и вечной.
Весьма распространен ныне возобновленный старый взгляд, отождествляющий нравственное зло с темною, бессознательною жизнью физическою (плотскою), и нравственное добро — с разумным светом сознания, развивающимся в человеке. Что свет разума сам по себе добро, это несомненно; но нельзя назвать злом и свет физический. Значение того и другого в их соответственных сферах одинаково. В свете физическом [4] Само собою разумеется, что я говорю здесь о свете не в смысле зрительных ощущений у человека и животных, а в смысле движения невесомой среды, связывающей между собою материальные тела, от чего зависит их субъективное бытие друг для друга независимо от наших субъективных ощущений. Слово свет употребляется для краткости, так как сюда же относятся и прочие динамические явления: теплота, электричество и т.п. Притом нам нет здесь дела до тех или других гипотез физической науки; для нас достаточно несомненного фактического различия между признаками упомянутых явлений и признаками весомого вещества.
всемирная идея (положительное всеединство, жизнь всех друг для друга в одном) реализуется только отраженно: все предметы и явления получают возможность быть друг для друга (открываются друг другу) во взаимных отражениях через общую невесомую среду. Подобным образом в разуме отражается все существующее посредством общих отвлеченных понятой, которые не передают внутреннего бытия вещей, а только их поверхностные логические схемы. Следовательно в разумном познании мы находим только отражение всемирной идеи, а не действительное присутствие ее в познающем и познаваемом. Для своей настоящей реализации добро и истина должны стать творческою силою в субъекте, преобразующею, а не отражающею только действительность. Как в мире физическом свет превращается в жизнь, становится организующим началом растений и животных, чтобы не отражаться только от тел, но воплощаться в них, так и свет разума не может ограничиться одним познанием, а должен осознанный смысл жизни художественно воплощать в новой, более ему соответствующей действительности. Разумеется, прежде чем это делать, прежде чем творить в красоте или претворять неидеальную действительность в идеальную, нужно знать различие между ними, — знать не только в отвлеченной рефлексии, но прежде всего в непосредственном чувстве, присущем художнику.
II
Различие между идеальным, т. е. достойным, должным, бытием и бытием недолжным, или недостойным, зависит вообще от того или иного отношения частных элементов мира друг к другу и к целому. Когда, во–первых, частные элементы не исключают друг друга, а, напротив, взаимно полагают себя один в другом, солидарны между собою; когда, во–вторых, они не исключают целого, а утверждают свое частное бытие на единой всеобщей основе; когда, наконец, в–третьих, эта всеединая основа или абсолютное начало не подавляет и не поглощает частных элементов, а, раскрывая себя в них, дает им полный простор в себе, тогда такое бытие есть идеальное, или достойное, — то, что должно быть. Оно и есть само по себе [5] Обоснование этого утверждения принадлежит к области метафизики, а не эстетики.
, но для нас оно является не как данная действительность, а как идеал, лишь отчасти осуществленный и осуществляемый; в этом смысле он становится окончательно целью и безусловною нормою наших жизненных деятельностей: к нему стремится воля как к своему высшему благу, им определяется мышление как абсолютною истиною, он же частию ощущается, частию угадывается нашими чувствами и воображением, как красота [6] Различные мыслители с совершенно различных сторон приходят к мысли о существенном тождестве добра и красоты и о нравственном задаче искусства. Своеобразное и талантливое выражение этой мысли находится у недавно умершего французского писателя Гюйо в сочинении "De l'art au point de vue sociologique"["Искусство с социологической точки зрения". Русск. пер. Спб., 1900. См также: Гольцев В. А. Об исскусстве. Спб., 1890.]. Взгляд Гюйо изложен г. Гольцевым в его книжке об искусстве, другие статьи которой также заслуживают внимания.
. Между этими положительными идеальными определениями достойного бытия находится такое же существенное тождество, как и между соответствующими им отрицательными началами. Всякое зло может быть сведено к нарушению взаимной солидарности и равновесия частей и целого; и к тому же в сущности сводится всякая ложь и всякое безобразие. Когда частный или единичный элемент утверждает себя в своей особенности, стремясь исключить или подавить чужое бытие, когда частные или единичные элементы порознь или вместе хотят стать на место целого, исключают и отрицают его самостоятельное единство, а чрез то и общую связь между собою и когда, наоборот, во имя единства теснится и упраздняется свобода частного бытия, — все это: и исключительное самоутверждение (эгоизм), и анархический партикуляризм, и деспотическое объединение мы должны признать злом . Но то же самое, перенесенное из практической сферы в теоретическую, есть ложь. Ложью называем мы такую мысль, которая берет исключительно одну какую‑нибудь из частных сторон бытия и во имя ее отрицает все прочие; ложью называем мы и такое умственное состояние, которое дает место лишь неопределенной совокупности частных эмпирических положений, отрицая общий смысл или разумное единство вселенной; наконец, ложью должны мы признать отвлеченный монизм или пантеизм, отрицающий всякое частное существование во имя принципа безусловного единства [7] Ложность этого принципа в таком его применении ясно обнаруживается из внутреннего противоречия, в которое он при этом впадает, ибо, становясь исключительным , единство перестает быть безусловным .
. И те же самые существенные признаки, которыми определяется зло в сфере нравственной и ложь в сфере умственной, они же определяют безобразие в сфере эстетической. Все то безобразно, в чем одна часть безмерно разрастается и преобладает над другими [8] См. примеры этого в статье "Красота в природе".
, в чем нет единства и цельности и, наконец, в чем нет свободного разнообразия. Анархическая множественность так же противна добру, истине и красоте, как и мертвое подавляющее единство: попытка реализовать это последнее для чувств сводится к представлению бесконечной пустоты, лишенной всяких особенных и определенных образов бытия, т. е. к чистому безобразию.
Читать дальше