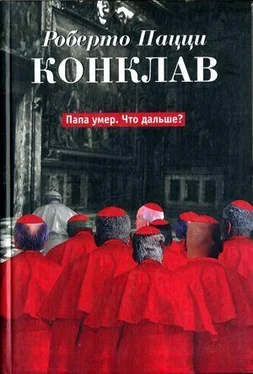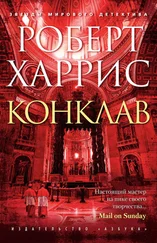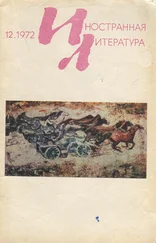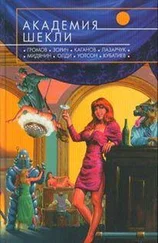Даже потом, когда будут спрашивать об особенностях этой речи, память не решится каждый раз фокусировать все чередование доводов и пассажей его защитительной речи и ее финала. Казалось, что парус тайны связал их всех перед Богом и людьми, захватил их умы, охраняя их, тех, кто получил от Святого Духа Параклета это божественное озарение, тех, кто этому озарению подчинился в одном из самых трудных выборов в истории Церкви.
Сколько времени он говорил? Никто точно не знал. Невозможно было измерить ту реку слов, или, лучше сказать, те бредовые речи кардинала, от которых присутствующие сами становились ненормальными, при этом уважая его как юродивого во Христе.
Говорил о нужде человечества в вере, вере, придающей силу и сопровождаемой любовью, радостью, счастьем. Католическая Церковь устала доказывать многотысячными миссиями свою правоту, миссиями, изнуренными чувством вины за ошибки и грехи, часто заклейменные, как порочные аспекты нового времени, но которое должно было бы быть распознаваемо, с последующей просьбой о прощении перед всем человечеством.
Говорил о Святом Духе, что не знает где идет дождь, но дождь, тем не менее, льет на головы людям; что существование без Бога – пустота. Говорил о больших надеждах, что раскрываются тем, кто мучается от этой Пустоты, что надежда – это и есть сам Господь Бог.
Говорил о славе нового Христа, который возродился бы вследствие их выбора и в то же самое время умер бы в этом выборе, если умереть означает для них, кардиналов, выбирать не из своего освященного круга, из которого Христос просил бы следовать ему, пополняя ряды христиан.
Говорил, что нужно иметь смирение, чтобы не спрашивать о смысле чудовищных событий, произошедших в эти месяцы, когда Дьявол, обнаружив их слабости, вошел в их открытые двери самым губительным образом.
Говорил о грусти старения, об эгоизме пожилого возраста, о страхе перед угрозой конца, чаще всего единственного, что тормозило собрание и приводило их к неспособности прийти к окончательному решению. Святой Дух стал их портретом, – как они того и хотели, – в их желании выйти из конклава, выбрав все равно кого. Такое решение позволило бы им насладиться удовольствиями последних привилегий, прежде чем они умрут.
Говорил о зле, о том, что они его выдерживали, не понимая его до конца. Об их сердцах, глухих к приглашению к одиночеству и тишине в эти четыре месяца конклава. Не понимали смысла этого затворничества, потому что их сердца подавлены тревогой и страстным желанием делать, делать и делать – в который раз, – без остановки действовать, непристойно и без какого-либо смысла.
Говорил о высокомерии их пасторальных писем, где больше не звучит милосердие, а только холодная доктрина; о жаргоне в них, далеком от жизни; о том, что они повторяют в юбилейные дни как бы нужные слова, в те дни, когда Христос и апостолы суть жизнь. Это Рождество, которое празднуют с пышностью во всех древних кафедральных соборах Европы и в более новых соборах мира… но не дрожат уже ангелы и пастыри в эту ночь, в которую Он родился…
В этот момент он прервался, может быть от мучительной мысли об этом Рождестве, которое они все будут проводить в одиночестве, вдали от всех своих, сидя здесь в поисках последователя Того, Кто родился в этот день более двух тысяч лет назад.
Потом, не скрывая своего волнения, он пришел в себя.
Сколько раз, совершая мессу, спрашивал Его, как многие из них (если не быть Дон-Кихотом, который видел гигантские ветряные мельницы), держа в руке освященную просфору! Сколько раз не надеялись они на помощь Бога! Сколько раз они жили по Евангелию, как в закрытой клетке, от которой потерян ключ, отказываясь укреплять ум и силы, заново воссоздавая святых, заявляя о себе, как об их наследниках! Поэтому и они не должны сомневаться ни на секунду, что то, в чем он их укоряет, он сейчас относит, прежде всего, к самому себе. Он, один из самых слабых и нерешительных, усталый и растерянный, эгоист, замученный мыслью о том, что может умереть здесь, среди сидящих сегодня в конклаве.
Умолял простить, если обидел, потому что только после того, как сказал им, нужно будет спрашивать все это с того, кто будет выбран во имя Господа. Если бы они хорошо рассмотрели молодого Иисуса Христа, Господа Нашего на все времена и на вечность, сверкающего в свои тридцать три бессмертных года на стенах, расписанных Микеланджело, они бы хорошо поняли смысл этого блестящего возраста Бога, подарившего им также Свое Воскресение. Старались бы правильно оценить свой выбор, который вот-вот должен произойти, нового наследника Христа, потому что впервые Он может возродиться в судьбе молодого пастыря стареющего человечества. Может быть, все человечество и та часть, что не знает Церкви, склонило бы свою голову перед избранным, вновь узнавая символ и надежду на Его действительное возрождение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу