— Богатая ваша Москва! Люди в ресторанах кушают!
— Кончились деньги.
— Это у простых людей деньги кончились. А вы в три горла жрете!
— Нет денег.
— Врете, Зоя Тарасовна, вы иностранцу квартиру сдаете! У вас иностранец живет! Валютой вам платит!
— Никто мне не платит!
— Врете!
Бассингтон-Хьюит появился в дверях спальни, румяный британский джентльмен. Он внимательно изучал плачущую домработницу. Насколько это искренне? Действительно не может собой владеть — или это игра? За спиной его, в спальне, рыдала Сонечка; она свернулась в клубок на постели и содрогалась от рыданий. Зое Михайловне неудобно было плакать, но слезы — обиды, бессилия, зависти к нормальной жизни — хлынули из глаз сами собой. Созерцание трех плачущих женщин смутно напомнило Максимилиану Бассингтону что-то из русской классики: три сестры, дядя Ваня — это уже много раз описано.
— Позвольте мне. — Бассингтон полез в карман, достал портмоне.
— Не надо, что вы!
— Нет уж, пусть платит!
— Прошу вас. — Бассингтон деликатно пригласил Машу выйти из кухни; щепетильность требовала обсудить денежный вопрос наедине.
Британец и домработница вышли на лестничную площадку — собственно говоря, это самое подходящее место для разговора с прислугой.
На площадке, подле грязной двери лифта стоял смуглый плосколицый человек, Маша переглянулась с ним.
— Деньги дают? — сказал плосколицый.
Ситуация мгновенно прояснилась для Бассингтона. В проблемных пригородах Лондона, в Брик-стоне например, такие парочки не редкость. Сутенер — а плосколицый восточный человек был несомненно сутенером — посылает свою девушку наниматься прислугой, а потом шантажирует хозяев. Старый прием.
— Сколько денег желаете?
— Девять тысяч.
— Девять не дам. Пятьдесят рублей хотите? — В открытом портмоне виднелись фунты и доллары, зеленая стопка российских тысячных купюр. Бассингтон выискал пятидесятирублевую бумажку.
— Если берешь деньги — пишешь расписку. Расписку несу в милицию.
— Не буду ничего писать!
— Тогда не получишь денег. Закон.
— А меня на работу по закону брали? Со мной контракт заключали?
Всю свою историю Британия наводила порядок среди дикарских племен; родовой инстинкт Максимилиана Бассингтона заставил его и здесь, в незнакомом холодном городе, представлять закон. Бремя белых всегда остается — некуда от этого бремени деться, пока существует проблема столкновения цивилизаций.
— Пятьдесят рублей и расписка. Вопросы еще есть? — Бассингтон поглядел на маленького плосколицего человека и его спутницу. Он специально приблизил свое лицо к лицу восточного человека — чтобы глядеть глаза в глаза. Если пристально смотреть в глаза дикарю, его можно приструнить самим фактом духовного превосходства. Рассказывают, что пристальным взглядом белые охотники обращают в бегство диких зверей.
Ахмад ударил Бассингтона головой, удар пришелся в нос, сломал хрящ, и англичанин упал на желтый кафельный пол. Крови было много, полилась из двух ноздрей сразу, и даже крикнуть не получилось — рот оказался полон крови и грязи.
Ахмад перевернул англичанина на живот, заломил ему руки назад, наступил коленом нестриженый затылок Бассингтона, вдавил лицом в кафель. Колено было худое и острое, шея англичанина сразу онемела. Окурки, плевки, грязь и бутылочная крошка, намоченные кровью, влипли в щеку Максимилиана Бассингтона. Ахмад, упираясь коленом в затылок Бассингтона, достал нож, раскрыл, распорол на беззащитном англичанине ремень и брюки с трусами, стянул брюки до колен.
Бассингтон решил, что смуглый человек совершит с ним акт мужеложства, овладеет им через задний проход. Он читал, что восточные бандиты именно таким образом издеваются над своими жертвами. Он чувствовал крепкую руку на своих ягодицах, и некоторые эпизоды жизни в колледже Крайст Черч невольно всплыли в его памяти. Однако бандит ограничился тем, что стянул с Бассингтона штаны и связал ему ноги ремнем. Ахмад проделал все это просто для того, чтобы обездвижить Бассингтона. Руки он связал другой половиной ремня.
Нападавшие не произнесли ни слова. Ахмад подобрал с пола портмоне, взял Машу за руку, и они быстро спустились по лестнице.
Бассингтон продолжал лежать ничком на лестничной площадке — боль от сломанного носа была такая, что ни думать, ни говорить он не мог. Чтобы позвонить в милицию, надо было встать или хотя бы крикнуть, а он не мог сделать ни того, ни другого. Он ворочался, мычал, пытался встать, и не мог, скреб ногами по кафельным плиткам. Пытался крикнуть и не мог, рот был заполнен липкой грязью. В полумраке лестничной клетки белел его полный зад.
Читать дальше
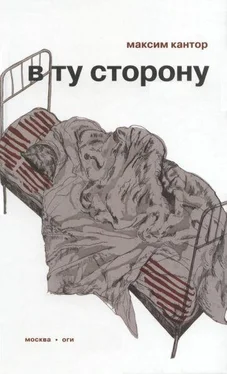







![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)

