— А чего ему тут делать? — спросил отец.
— Ты придумаешь тоже, — сказала Ларка и снова сыграла мизинцем.
Новиков внимательно смотрел на близких…
Проша запомнился так: высокий, сутулый, нависающий над тобой.
Причем сначала как бы сам нависает, всем огромным, плечистым, сутулым телом, а во вторую очередь, но уже отдельно свисает к тебе его нос — крупный, с ноздрями, дышащий, — если б я учился лепить из глины, мне б такой сгодился, чтоб ощупать, осознать все его хрящи. Вдохни таким носом — с ромашки облетят все лепестки, и она надорвется с корней.
В замечательном несоответствии с носом — темно-русые кудри шапкой. Эта шапка струится и пышет на любом сквозняке.
Посмотришь на Прошу и кажется, что не человек пред тобою, а змей с горбатой горы, проглотивший леля с пшеничного поля, и вот они живут вдвоем, но в одном существе — и торчат друг из друга.
Я его встречал раз в три года.
Сначала мне было четырнадцать лет, в моем ухе висела золотая серьга. Я брел, нестрижен и сален волосом.
Мне выпало дружить с людьми, которые больше любили петь, чем молчать или думать; пение надолго заменило им разум.
Они носили на плечах гитары, старались одеваться в черное, немаркое.
В тот весенний день на площади стоял такой гай, будто все мы час назад невесть откуда слетелись на эту грязную льдину, и всякий стремился громче всех рассказать, что забавного видел по пути.
Самый высокий в толпе человек, отлаживая перед концертом глотку, пел настолько громко, что все оглядывались.
— Это Прон. Проша. Оглобля, — довольно смеялись здесь и там.
Любой повторял его имя с такой интонацией, словно недавно летел с Прошей в одном косяке, сквозь дым и холод, крыло к крылу.
Проша выкрикивал то одну, то другую строчку и прислушивался к эху. Каждая строчка звучала так, будто красную ткань сильными руками рвут надвое, натрое.
Проше подыгрывали на гитаре. Гитара, как таратайка, дребезжала и припадала колесом на всех ладах и ухабах.
Пропев короткий кусок песни, Проша наглухо сжимал рот, чуть тряс головою в такт скачущим аккордам и делал щекой такое движенье, словно побеждал судорогу. Глаза его были лихорадочны, как у разночинца.
В руках Проши то безвольно повисали, то снова возбуждались и начинали танцевать маракасы.
Я принял сто пятьдесят водки прямо из горла, и, когда закрывал глаза, мне казалось, что Прон трясет в маракасах всеми домами, светофорами, деревьями и куполами вокруг.
Ему передали пластиковую бутылку пива. Закинув нос к небу, он отпил огромными глотками много.
И нос его смотрелся огромно, и маракасы в руках были огромны, и весна громыхала, будто ее, как дрова с трактора, вываливали в город.
Когда Проша поднимал руки — я всякий раз замечал, что по нижнему шву правого рукава его рубахи нашиты маленькие колокольца — они вскрикивали, как дети на крутой горке.
Я часто оглядывался то на звук оборванной строки, пропетой Прошей, то на взмах его рук — и взвизг напуганных колокольчиков.
Оглянувшись в очередной раз, глаза в глаза увидел в толпе скуластую девушку с любопытствующим взором. Она словно хотела стать тут поскорей своею, но пока не удавалось.
На ней было короткое пальто, джинсы, сапожки… черные кудряшки из-под вязаной шапочки… свитер с горлом — и нежнейший подбородок то поднимался над грубой вязкой, то прятался там.
Лацкан пальто украшали отсвечивающие на мартовском солнышке три больших круглых значка. На значках виднелись мертвый Джим, неживой Сашбаш и еще певший тогда Курт. Все трое смотрелись как братья.
Девушка курила тонкую сигарету и когда встретилась со мной глазами — улыбнулась. «Здорово тут, да?» — спросила взглядом, радостно моргнув. Потом смущенно затянулась и выпустила дым куда-то в свитер.
«Он весь пропах дымом, наверное, и мама наругает ее за это», — подумал я, суетно отвернувшись. Но ласковый подбородок так и остался маячить в глазах.
Девушке было тогда меньше шестнадцати. Она казалась красивой и юной настолько, что к ней никто не подходил, даже самые пьяные.
Сизый, огромный дом, возле которого мы собрались, наконец, распахнул двери. Меняя рубли на билеты, шумное юношество повалило вовнутрь. Бабушки на входе злобно вскрикивали:
— Куда с папиросами, черти! Брось! Брось, сказала!
Я решил не терять эту, в кудряшках, из виду — хотя заранее знал, что ни за что не решусь к ней подойти.
Стрельнув у кого-то из взрослых знакомцев сигарету, я покурил на улице, чтоб потянуть время, и стал еще пьянее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

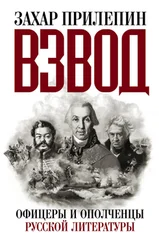






![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны - 2013-2021 [litres]](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-thumb.webp)



