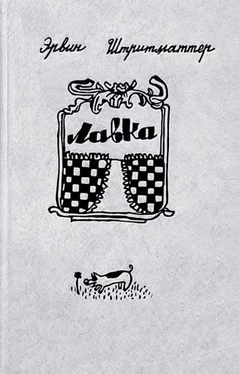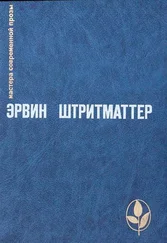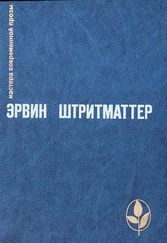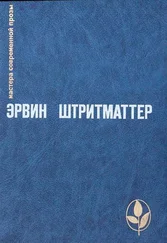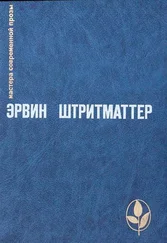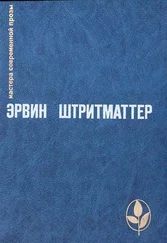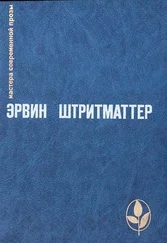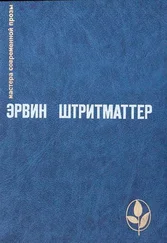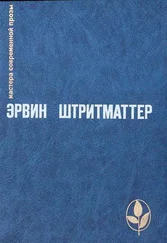Прощальное письмо, адресованное моему другу Герману Витлингу, звучит так: Разлука нам велит страдать, / Не будем мы с тобой рыдать. / Друг друга сможем повидать…
А для Франца Будеритча, специалиста по любовной жизни людей и животных, я написал так: Сердце от мене не закрывай, / Никогда мене не забывай…
В последний день занятий перед пасхальными каникулами я стою среди других выпускников, раздаю свои прощальные письма и с волнением слежу, догадывается ли кто-нибудь из одаренных мною, что стишки в моих письмах сочинены мной лично. Ничего подобного!
До сих пор я и не подозревал, что у меня есть дорожная корзинка, теперь же я только и слышу: «А это ты уже уложил в свою корзинку? А это? А это? А то?» Да и корзинка вовсе не моя. Она, как, например, собака, принадлежит всему семейству. Это та самая корзина, с которой моя мать Ленхен еще в девицах добралась до самого Шёнеберга. Хорошая была поездка.
Я кладу в корзину не только рубашки с короткими рукавами и длинные хлопчатобумажные чулки, но и стопочку книжек, числом десять-двенадцать. Пустые ящики шкафчика в детской комнате чувствуют себя заброшенными и одинокими. АО Маргарин Ван дер Берг написано на задней стенке шкафчика. Нет у меня больше в Босдоме духовного прибежища, нет и места для отдыха. Там, куда я направляюсь, требуют не только перину с матрацем, но даже и самое кровать. Кровать, которую устанавливали Ханка с бабусенькой, когда мы только-только переехали в Босдом, обжила свой угол и привыкла к нему, теперь, когда мы с дедушкой разбираем ее, она сопротивляется и кряхтит. В углу на некрашеных половицах остаются хлопья пыли, а сами половицы там, где стояла кровать, выглядят чуть поновей. Мой еженощный сон не давал человеческим ногам истаптывать их.
Последнюю ночь я должен спать в комнате, где стоят постели моих родителей. Там они стоят (если вдуматься, совсем не по-мещански), как скамейки для нищих в благотворительной кухне, боком и одна за другой вдоль стены, выходящей во двор. Там они стоят с тех пор, как в нашу квартиру вселился шезлонг, который мы называем шислонгом. До того, как он (она, оно) к нам приехал, у нас только и была что обтянутая зеленым плюшем кушетка в стиле модерн с резными кувшинками по верхнему краю подголовья. Кушетка являлась частью материного приданого. И вот мой отец, о котором нам уже известно, что он испытывал повышенную потребность в отдыхе и сне после картежных вечеров, которые передавали его очередному дню в невыспавшемся виде, использовал порой эту кушетку, чтобы, как он выражался, принять пекарскую дозу. Хлеб доходит в пекарне, до того, как задвигать листы в печь, осталось минут пять-десять. «Пять минуточек», — бормочет отец и прищелкивает языком, у него это означает, что он уже наполовину спит. Дозы на зеленом плюше приданой кушетки крайне не нравятся моей матери. Правда, кушетка на всякий случай защищена покрывалом, но тончайшие пылинки королевской крупчатки проникают сквозь покрывало, забиваются в плюш, а матери после этого приходится чистить и выбивать, у нее капают слезы, а она чистит и выбивает.
В силу перечисленных обстоятельств дёбенский обойщик сварганил нечто, впоследствии названное нашим шислонгом. Между нами говоря, помимо этих обстоятельств, здесь сработало стремление моей матери оказаться на высоте требований моды. Про кушетки говорилось, что они устарели, весь мир, и Модный журнал Фобаха в придачу, в один голос воспевал шезлонги, кто мог обзавестись таковыми, тот и обзаводился, а кушетки за выслугой лет были распиханы по темным углам и чердакам, чтобы, выждав положенные пятьдесят лет, снова войти в моду и обзавестись новой обивкой.
Шезлонг и становится моей постелью в последнюю босдомскую ночь. Я возбужден, сплю плохо, то и дело просыпаюсь, а лежа без сна, вспоминаю, что забыл попрощаться со звуком, который издают наши ходики, когда отбивают половинки и целые часы. Удары наших часов напоминают голос струны соло на мандолине Густава Заступайта. В моем восприятии он даже наделен своеобразным вкусом. Все равно как вкус лимонада, когда пьешь его сквозь пену.
Размышляя о бое часов, я снова засыпаю и просыпаюсь чуть погодя, на сей раз от каких-то повторяющихся звуков и от шепота, который куда слышней, чем громкий разговор. К шепоту добавляется хихиканье. Это хихикает моя мать. Такое хихиканье мне знакомо. Когда в лавке отпускают всякие двусмысленные остроты, мне велят выйти, и порой, когда я не успеваю отойти на должное расстояние, мне слышно вот такое же хихиканье, сальное хихиканье моей матери.
Читать дальше