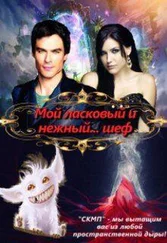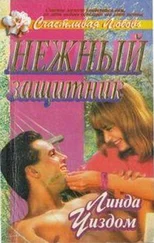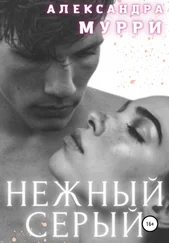— А вот и вы… А я все гадал, отчего Август Казимирович не едут? Все едут, а его нет. А ведь друзья были.
У меня похолодело в груди.
— Постой, Игнатий Тихонович, что ты говоришь: были… Он?..
Лапкин с силой шаркнул метлой, подняв тучу пыли.
— Дождь, что ли, скорей, чтоб все прибил, — проворчал он. — А Федор-то Петрович живой покамест, но совсем плохой. Этот… как его… карбункул его замучил. Я и к Дусе Тамбовской ходил, и к Якову Самойловичу в Преображенскую лечебницу, у них спрашивал… Без толку. Яков Самойлович все про какие-то доски твердит, а Дуся вообще… Я, говорит, голубица, я таких дел не касаюсь.
Правду говоря, все эти юродивые, предсказатели, все эти люди странной породы, к которым захаживал Игнатий Тихонович, никогда меня не интересовали. В моем представлении это был совершенно вымороченный мир, откуда, однако, против всех законов науки вдруг проблескивали всполохи удивительных и тревожных прозрений. Доски, о которых брякнул этот Яков Самойлович, пожизненный обитатель сумасшедшего дома, против моей воли глубоко и больно задели душу. С одной стороны, я понимал, что это всего-навсего абракадабра, бессмыслица, обманывающая своей мнимой глубиной, а с другой… Мысль бежала сама: доски — забор, доски — пол, доски — полка, но доски — и гроб.
— Экая чушь! — с ужасной досадой на самого себя пробормотал я и, должно быть, довольно громко.
Игнатий Тихонович услышал.
— Чушь?! Вы о чем?
Я махнул рукой.
— Все на свете! Ну скажи на милость, зачем Федору Петровичу так тяжело болеть?
— Воля Божья, — неуверенно отвечал Лапкин.
Непонятное раздражение охватило меня.
— Зачем же Ему, — я кивнул на небо, — это понадобилось? Зачем мучить праведника?
— Когда ты здоров, то и Бога любишь, — теперь уже без тени сомнения промолвил Игнатий Тихонович. — Это одно. А в горестях и болезнях? Федор-то Петрович как мучается, а против Бога слова не сказал. Новый Иов он у нас.
Я было взялся уже за ручку двери, но тут она отворилась, и я увидел Ивана Васильевича Киреевского, славного человека, которого за большие познания и любовь к Отечеству в определенных кругах весьма чтили и внимали каждому его слову. Он долгие годы провел как бы в бездействии, но сейчас стало ясно, что Иван Васильевич, скорее всего, копил умственные и нравственные силы, чтобы в конце концов со всей мощью незаурядного ума и горячего чувства промолвить некое решающее суждение о России, о том, каков был смысл ее прошлого и какую роль надлежит ей сыграть в будущем. Лицо его было печально. Мы поздоровались, и я первым делом спросил:
— Как он?
Прямо взглянув на меня, он с беспощадной твердостью ответил:
— Умирает. И ни одной жалобы! Я только и думаю, — прерывисто сказал Киреевский, — я только и молю Бога лишь о том, чтобы последние мои дни прошли в таком же душевном спокойствии! Так, — прибавил он, — уходят люди, до конца исполнившие свой долг. Прощайте, Август Казимирович.
Это была наша последняя встреча. Спустя три года я провожал Ивана Васильевича в последний путь со скорбной мыслью о еще одной отлетевшей в вечность чистой душе и с горьким сожалением о его едва раскрывшихся дарованиях.
Затем я медленно поднимался по лестнице с железными ступенями, стараясь ступать как можно тише и вспоминая, как в иные времена она гремела под моей быстрой пробежкой и вверх и вниз и гудела в ответ на грузную поступь Федора Петровича. Ах, господа, тяжело было мне всходить — тяжело и страшно. Чего бы я только не дал, чтобы все оставалось как прежде и чтобы Гааз встретил бы меня в добром здравии и принялся бы немедля посвящать в заботы об арестантах пересыльного замка или читать очередное свое послание тюремному комитету, генерал-губернатору или министру… «Меня, — говорил, к примеру, он, — упрекают в нарушении устава о ссыльных. Meine Antwort [139] Мой ответ (нем.).
, — он хватал со стола густо исписанный лист и с жаром принимался читать: — Обязанность руководствоваться уставом о ссыльных может быть уподоблена закону святить субботу. Господь, изрекши, что он пришел не разрушать закон, сам истолковал книжникам и фарисеям, порицавшим Его за нарушение субботы пособием страждущим, что не человек создан для субботы, а суббота для человека. Так и устав создан в пользу пересыльных, а не пересыльные созданы для устава…» Отложив бумагу, он взглядывал на меня с видом Давида, только что сразившим Голиафа. Святая простота, он был уверен, что против евангельского примера его противникам нечем будет ему возразить и они перестанут долгими месяцами морить ссыльных в губернском замке. Я иногда принимал обиженный вид. К вам, Федор Петрович, просто так не придешь — как добрые люди ходят друг к другу в гости: попить чайку, посудачить о том о сем, потолковать о политике, посетовать на размолвку с домашними. О бокале доброго вина с вами и заикнуться боишься: тотчас подпадешь под ваш гнев. Чай у вас чудовищный, разговоров об общих знакомых вы не переносите, к политике равнодушны, а на большие и малые семейные бури ответ у вас один: просите прощения. Он улыбался и кротко возражал: «Но жизнь наша, голубчик Август Казимирович, так коротка, а успеть надо так много… Жатвы много, — задумчиво говорил он, — а делателей — увы — мало».
Читать дальше