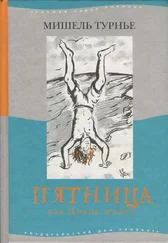Тогда он решил проанализировать с помощью записывающего устройства те более или менее нечленораздельные крики и звуки, что издавал каждый ребенок. Решительный шаг вперед был сделан в тот день, когда ему показалось, что каждый располагал одинаковым количеством базовых фонем и что этот единый фонетический арсенал включал базовый звуковой материал не только французского языка, но и других языков — английское «th», гортанное арабское «r», немецкое «ch» и т. д. То, что каждый ребенок владел одинаковыми фонемами, невозможно было объяснить подражанием. Мало-помалу из исследований Ларуэ стала вычленяться гораздо более необычная гипотеза, открывающая новые горизонты человеческого разума. Выходило, что каждое человеческое существо изначально владеет всем звуковым материалом всех языков, — и не только существующих или существовавших, а всех возможных языков, — но, усваивая родной язык, оно навсегда теряет навык употребления ненужных фонем — фонем, которые могут пригодиться в дальнейшем, если человек будет учить тот или иной иностранный язык, но тогда уже он обретет их не в оригинальной форме, которой когда-то владел, а вынужден будет восстанавливать их искусственно и с погрешностями, основываясь на неадекватных элементах, предоставляемых родным языком. Именно этим можно объяснить иностранный акцент.
В том факте, что глубокие дебилы сохраняли в нетронутом виде весь свой фонетический запас, вообще-то не было ничего из ряда вон выходящего, поскольку они никогда не учили родной язык, отделяющий неиспользуемую часть этого запаса и вызывающий ее ликвидацию. Но какую природу и какую функцию приписать этим лингвистическим корням, сохранение которых представляло еще одну аномалию? Речь шла не о языке, думал Ларуэ, а о матрице всех языков, об универсальном и архаичном лингвистическом фонде, об ископаемом языке, оставшемся в живых благодаря аномалии, родственной тем, что сохранили в живых мадагаскарского целаканта и тасманского утконоса.
Сестра Беатриса, пристально следившая за исследованиями Ларуэ, пришла к мысли, которую она остерегалась выражать публично, зная, что в ней увидят очередную мистическую грезу. Не просто какой-то язык, а гораздо больше, возможно, думала она, речь идет о первородном языке, на котором говорили между собой в земном раю Адам, Ева, Змий и Иегова. Ибо она отказывалась признать, что идиотизм этих детей абсолютен. Она хотела видеть в нем только смятение существ, созданных для другого мира — возможно, для лимбов, средоточия невинности, и вырванных из него, изгнанных, сброшенных на безвидную и безжалостную землю. Изгнанные из рая, Адам и Ева до конца жизни, должно быть, выглядели недоумками, на холодный и трезвый взгляд собственных детей, прекрасно приспособленных для мира, в котором они жили, где люди рождаются в муках и умирают в труде. Кто знает, возможно, райский язык, на котором еще говорили между собой их родители, звучал в их земных ушах невнятным шумом, как у тех эмигрантов, что так и не смогли усвоить язык приемной родины и позорят своих детей акцентом и синтаксическими ошибками? Также и мы не понимаем, как общаются между собой глубокие дебилы, а все потому, что наш слух закрыт для этого священного наречия из-за вырождения, начавшегося с утратой рая и увенчанного великим столпотворением Вавилонской башни. В этом вавилонском состоянии пребывает сейчас человечество, разделенное на тысячи языков, владеть которыми в полном объеме не может ни один человек. Таким образом сестра Беатриса возвращалась к Пятидесятнице, составлявшей, в ее глазах, величайшее чудо, высшее благословение, обещанное Благой Вестью, воплощенной во Христе.
Но если сестре Беатрисе хватало сил, чтобы возвеличивать своих глубоких дебилов, то, навещая детей из четвертого круга, последних, безымянных, являвших худшие человеческие уродства, рожденные взбесившейся природой, она поневоле в душе признавалась, что близка греху отчаяния. Поскольку они не выходили и не издавали ни малейшего звука, для них в цокольном этаже разместили настоящую жилую ячейку с кухней, душевыми, сестринской и просторным дортуаром на двадцать пять кроватей, из которых, к счастью, больше половины обычно пустовало.
Большие дебилы, неспособные идти и даже стоять, лежали на дырчатых шезлонгах, задрав к подбородкам костлявые коленные чашечки, и походили на скелеты, на мумий, чья голова, висящая на шее перезрелым плодом, приподнималась, слабо качаясь и бросая входящему поразительный взгляд, горящий злобой и глупостью. Потом туловище возобновляло прерванное на минуту качание, иногда сопровождаемое неясным и хриплым воем.
Читать дальше