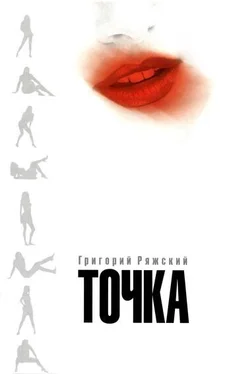Иногда, в те дни, когда случалось, что на сердце и прочую внутренность давило не так из-за другой теперь обстановки в доме, изменившейся в сторону твердой надежды, Петр Иваныч подходил к окну, оттягивал штору и ждал. Первый самолет, бесследный, он обычно пропускал, поджидая другого, того, что протянет за собой дымный конус, и, дождавшись такого небесного тела, еще долго не отходил от окна, пытаясь осмыслить разницу в ощущениях, когда смотришь наверх от третьего этажа или — туда же, но уже с высоты крановой башни. Открытие стало немалым: и то и другое перестало его больше волновать. Не то, чтобы он не испытывал все еще легкого восторга от рукотворных алюминиевых и титановых чудес, но как-то стали они теперь сами по себе, а Петр Иваныч — сам по себе. Что касается тех отважных пилотов, что управляли самолетами, то о них Петр Иваныч и вовсе думать перестал, понимая, что, раз держит штурвал, — значит, доверяют ему люди, а кто он таков: русский, чучмек иль татарин — не столь для полета и важно, как и для всего другого тоже. Все люди равны, все живут, болеют и умирают на этой земле, и только одна она остается вечной, если будет мир на планете и доброе начало. Очков своих Крюков тоже стесняться перестал окончательно, подцепляя их не только для читки газет, но и для постоянной носки, что несравненно усилило правдивость окружающего мира против прежних видов. И все, в общем, другое тоже было неплохим, уверенно выруливающим на возврат к тому, с чего началось, если с Зиной так и дальше пойдет, как пошло. Одно царапало, однако, не давая полностью угомониться от потрясений прошлой жизни — то, что любимая Зина, жена его, не хотела никак признать его мужем своим, Петром, а упорно продолжала обозначать Серегой Хромовым — лучшим другом. Сначала такая Зинина настырность была ему не важна — не до того было, не до случайных помех в мозгу, когда болезнь навалилась всей силой на супругу. Потом, когда отступила немного, — слегка удивляла, но не озадачивала. Теперь же, в период хорошего, крепкого восстановления сил — стала озадачивать, вызывая не всегда приятную реакцию на имя друга. Сам Cepera звонил и заезжал, и Людка его тоже про Зину беспокоилась, но почему до сих пор дутой камерой управлял Хромов и отчего он же греб руками и по настоящий день, преодолевая речные пороги, оставалось для Петра Иваныча загадкой. Порой он со всей возможной тщательностью перебирал в памяти дни их давней молодости, но ничего плохого или странного он там не находил: напротив, — оттуда, из тех мест и лет доносился запах доброй, веселой взаимности и надежной, преданной любви…
Первый раз боль возникла в том пространстве, где кончались зубы, последние с обеих сторон нижней челюсти, и это не было прямой зубной болью. Петр Иваныч не знал про это, не имел нужного опыта, но догадался — болела вся задняя часть рта, включая десну, небо и корень языка. Боль эта не была сильной — просто, казалось, сперва во рту возникло неудобство, не слишком мешающее жевать и глотать, но по неизвестной причине оно не прекращалось даже после довольно продолжительного ожидания избавления от нее. Тогда Петр Иваныч завел палец туда, где по его расчету помещался центр неприятности, предполагая выщупать нарыв или инфекцию от царапины на внутренней мякоти, однако, ничего не обнаруживалось, хотя и легче тоже не становилось. Хитрая причина не успела еще вызвать по-настоящему крепкий и мучительный сигнал, но то, что не все у него в хозяйстве в порядке, знать дала, похоже, основательно. На другой день, после суточной маеты картина не изменилась, а к вечеру неудобство проросло дополнительным нытьем внутри всей на этот раз ротовой полости. Именно в этот день Петр Иваныч Крюков решил сменить на посту Фенечку, которая шла дежурить в ночь, хотя со дня на день такие дежурства проходили по облегченной уже программе, и ночь получалась вахтенной не вся целиком, а только лишь контролировалась отдельными вставаниями для частой Зининой нужды и текущих проверок на общее состояние после выхода из основного паралича. Фенечка не соглашалась, не желая Петру Иванычу ночного беспокойства, но он настоял — так и так не спать из-за невидимого флюса, так пусть лучше Феклуша его отоспится хотя бы разок по-человечески, без привычной дерганой мороки.
— Сереженька… — встретила его улыбкой жена. — Золотой мой, ты когда вернулся?
Петр Иваныч тяжело опустился в кресло рядом с кроватью, вахтенное, в котором и сын и Фенечка караулили болезнь все ее месяцы и дни, и неожиданно для себя спросил Зину:
Читать дальше