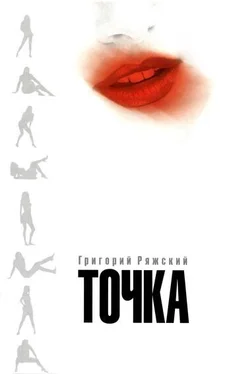Взгляд отцов был Павлу понятен, так же, как и собственный ответ на этот взгляд, как бы ни упрашивал его отец, бессловесно и чуть сердито. А от Фени действительно остались одни глаза лишь да худоба, все еще напоминающая модную стройность, она и впрямь была Павлу симпатична и даже дорога, но не так, как хотел того отец, и не так, как мог он сам и умел, и поэтому опасался Пашка оказывать Фене излишние знаки мужского внимания, чтобы не нарушить шаткий, не в ее пользу баланс и не огорчать наивного и незрячего отца. Ну, а Феня, понимая, что Павлику не пришлась, продолжала, сжав от безысходности зубы, спасение тети Зины, пытаясь найти забвение в отчаянной ежедневной усталости и ежечасной о ней заботе.
Мир же вокруг Петра Иваныча тем временем, пока новая дочка, путая болезни следы, вела Зину в сторону победного финала, похорошел и одновременно посерьезнел. Похорошел не в том смысле, что значительно улучшился против прежнего и приобрел новые мужские оттенки, а просто сделался немного другим, не таким хорошо знакомым и понятным, как раньше, упорядочился в отдельных измерениях и иным каким-то порядком сочленился с помощью отдельно взятых своих же частей. Смысл такой переделки Петр Иваныч улавливал пока плохо, но зато усек, что всерьез задумался над этим, в то время как раньше никогда о подобном не размышлял, даже сидя в поднебесной верхотуре и даже в те моменты, когда мысль его не отвлекали хаотически возникающие над башней небесные тела всех летающих фасонов.
А, может, — думал он, — теперь он такой, мир этот, потому что стал от меня выше после, как сошел я с крана, и вырос в размере, а я, наоборот, уменьшился против него, чтоб разглядеть с близким прицелом, а не в дальний фокус? Опять ни Колька вчера не позвонил, ни Валька не заехал…
К вечеру зато отзвонился Абрам Моисеич, бывший прораб. Он был слегка навеселе и бодро поинтересовался, позабыв про очередность опросника:
— Сам-то как, Иваныч?
— Сам-то в норме, — отрапортовал Петр Иваныч, радуясь звонку товарища по прошлому труду, — а у Зиночки моей улучшение пошло, тьфу-тьфу, вашими молитвами, Михалыч, спасибо, помните.
— А как не помнить, Иваныч? — искренне удивился Моисеич. — Кто ж, если не мы с тобой, рабочая косточка, друг дружку поминать станет при таких делах-то? У меня, вон, тоже намедни псориаз на правой лодыжке разыгрался, сил нет терпеть больше было, а потом — бац! — и само в момент улеглось — тоже не просто так, скорей всего, а по чьей-то доброй воле, во как!
Сам не зная почему, Петр Иваныч внезапно ощутил где-то внутри, там, где дыхание, причастность к резкому выздоровлению прораба от неизвестного недомогания со сложным названием, и ему стал приятен такой разговор. Он участливо поинтересовался:
— А это что ж такое за болячка-то, как ты назвал ее… на ноге.
— Псориаз? — нетрезвый Абрам Моисеич сел, видать, на любимого конька и погнал: — Это, Иваныч, такое говно, хуже нет: собирается в бляшки, поверх — чешуя и зудит, бывает, — нет мочи. — Он огорченно перевел дух и в дополнение пояснил, чтобы не осталось сомнений в мученическом происхождении собственного страдания: — Это наша национальная специфика такая, почти у каждого еврея через одного случается на третий, ничего тут не поделать: ни излечить хорошо, ни муку унять от расчеса, ничего!
— А при чем, евреи-то? — удивился Петр Иваныч, заподозрив недоброе. — Ты-то при чем здесь?
— Как при чем? — тоже не понял Охременков. — Я ж Абрам Моисеич натуральный, я ж тебе еще в больничке докладывал, забыл, что ли?
— А-а-а-а… — понятливо протянул Крюков, не понимая радоваться или огорчаться такому открытию, но надежно осознал одно — ни хуже, ни лучше прораб от этого не сделался, потому что за последний жизненный отчет повязавшая их дружбу крепость стала такой ясной и хорошей, что нужды в кровавом разбирательстве больше не было вовсе. А если учесть, что Зина все еще висела между болезнью и здоровьем, хотя помаленьку и начала возврат в трезвую жизнь, то расовые мелочи чужих меньшинств уже казались Петру Иванычу делом столь малым и так удаленно отстоящим от истинно человеческих нужд, что реакцию вызывали никакую, ранее вовсе для него невозможную — да Бог с ними со всеми…
Днем Петр Иваныч старался, как умел, помогая Фене в домашних делах. Но оба уже понимали, что с каждым днем хозяйство все плотнее ложится лишь на ее плечи. Там, где раньше помещалась банка с мукой, теперь располагался целлофан с лавровым листом, а место бывшего веника отныне заняла хитрая складная палка со сменными тряпочками для протирки пола. И так дальше, по всем углам и полкам. Клетку из-под Славы Феня, спросив разрешения, перенесла на балкон и сунула там под вытертую клеенку, а кожаные башмаки Петра Иваныча, те, что он последние лет пятнадцать надевал на стройку, окончательно переехали на антресоли над сортиром. Павлик по-прежнему появлялся через день, занимая место подле матери с позднего вечера до утренних часов. С Фенечкой он, как и прежде, был ровен, дружелюбен и благодарен, но не более того, и Петр Иваныч, подмечая к неудовольствию своему отсутствие обещанного продвижения от сыновой стороны к «дочке», переживал за такую оттяжку счастливого исхода судьбы молодых. Фенечка продолжала мучительно искать Павликова внимания к себе, но не получая его в ответ, все равно надежды тайно не теряла. Иногда она плакала, оставшись одна у себя в комнате, когда Павел с книжкой под мышкой, вежливо поздоровавшись с ней, проходил к маме в спальню и не выходил оттуда до самого утреннего ухода домой.
Читать дальше