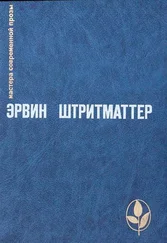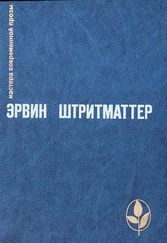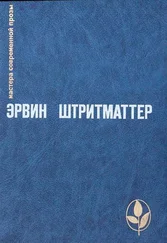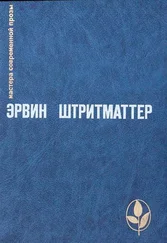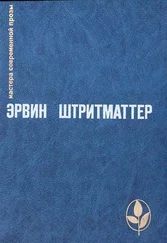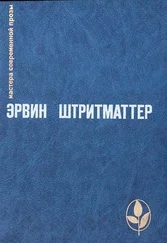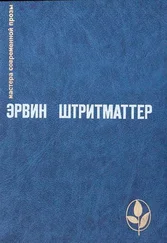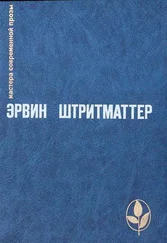Но наконец голод сражал детей, и они грозили покинуть постель вместе с жениховым воротничком и вуалью, и если дома находилось несколько марок, по рассеянности забытых теткой и не засунутых в кошелек на ее груди, дядя Филь тотчас относил их в обмен на круглые пирожные со взбитыми сливками или франкфуртские колбаски, он устраивал себе и детям красивую жизнь и разговаривал сам с собой: «А что еще остается нам в жизни, а? Что есть человек? Слизь, клетчатка и вода…»
Тем временем в духовке выкипала вода в котелке с картофелем, и картошка в мундире, варившаяся на обед, подгорала и постепенно обугливалась. Дядя Филь никогда не чистил картошку. Чистка картофеля уменьшала время, посвященное чтению, и лишала детей ценных витаминов, которые, по его утверждению, содержались в кожуре.
Тетя Элли стирала и гладила теперь вечером и по ночам, она литрами пила черный подсоленный кофе, а дядя лежал в постели, читал и шмыгал носом, и, когда кончал читать, он ворковал, глядя на тетушку, словно влюбленный самец морской свинки, и тетя не могла устоять, нет, она не могла устоять, и она ложилась к дяде Филю и… вставала, когда он засыпал, стирала и гладила, складывала выстиранное и выглаженное белье в стопки на гладильной доске и прикладывала к ним ярлычки: «для барышни из Белого коня» или «для господина, что живет над Стопрассами».
Дядя выдавал готовое белье в заведении своей супруги, и если, пока он читал и приглядывал за детьми, у него кончались сигареты, он брал мелко нарезанный табак и крутил из записок, приложенных к сверткам с бельем клиентов, эрзац-сигареты, а когда клиенты приходили за бельем, Филь путал пакеты, заказчики ворчали и больше не приходили.
Как-то, разнося газеты, тетя уцепилась за трухлявые перила, чтобы не упасть с лестницы, споткнувшись о собственные ноги, и всадила себе в руку занозу. Дома она выковыряла занозу острием ножниц из подушечки на ладони около большого пальца, не обращая внимания на ранку, возилась вечером с серо-голубым щелоком, насквозь пропитанным бактериями, в котором скопилась грязь не меньше чем от двадцати пяти клиентов, и заболела сепсисом — заражением крови.
Несмотря на это, на следующее утро она бегала с газетами вверх и вниз по улицам, вверх и вниз по лестницам, она уже не могла двигать правой рукой и раздавала газеты левой, она примчалась домой и стирала и гладила левой рукой. Только поздно вечером она легла в постель и потеряла сознание и умерла, лежа рядом с дядей, — ребячески уверенный в своей неотразимости, он полагал, что тетя легла в кровать из-за его влюбленных взглядов.
Гроб тети стоял на том месте в комнате, где обычно стояли два стула, на спинках которых лежала гладильная доска. Морщины на тетином лице — наверно, заражение крови тому причиной — разгладились, женщина, обмывавшая труп, укрепила вечно свисавшие пряди волос, ноги карликовой курочки покрыли белой простыней. Тетины щеки чуть отливали розовым, откуда взялся этот оттенок, знала только смерть, подстерегшая тетю на лестнице в облике неумолимой деревянной щепки. И вдруг мы увидели, и сестра и я: тетя — Снегурочка, какой мы ее представляли себе, услышав о ней впервые из дядиных уст.
В этот день дядя не читал. Он вел себя как подобало себя вести в этом случае, о чем он много, много раз читал. Он грустил, как следовало: псевдолитературно и для каждого посетителя, входившего в комнату, прикладывал к груди и ко лбу сжатые в кулак, лишенные ногтей пальцы и скулил, как брошенная собака, но эти стоны были такими же ненастоящими, как причитания плакальщиц, которых я слышал много лет спустя на окраине Тбилиси; он испускал жалобные вопли по пять зараз, а потом шмыгал носом, как обычно, когда поглощал волнующее чтиво, пошмыгав носом, он опускался на колени и целовал тетю в отравленную руку и в лоб, потом подымался, вытягивал из кармана пачку сигарет, открывал ее, выкуривал сигарету, на свой лад воскуривая фимиам усопшей, а я все время ждал обычной фразы: что есть человек… но дядя, казалось, в тот день позабыл ее — значит, скорбь все-таки внесла некоторое расстройство в клетки его мозга, и это было утешительно после всего, чему нам довелось быть свидетелями.
А тетя смотрела своими закрытыми глазами с легкой улыбкой мимо нас всех, мимо бабушки, мимо меня, мимо мужа, дымившего сигаретой, мужа, которого она использовала, и если ни для чего другого, так для смерти, которой она умерла.
Случилось так, что, освобождаясь из объятий возлюбленной, я увидел летящего синего соловья; я не смог забыть синего соловья, я помнил о нем весь день, я вспомнил все, что мне рассказывали о соловьях, и, судя по всему этому, соловей был птицей из рода воробьиных, уничтожающей насекомых, кладущей яйца и не имеющей ничего общего с млекопитающим человеком. Но чем больше думал я о соловье, тем более сомнительным и поверхностным представлялось мне все, что я учил о нем; он явился предо мной в воздушном пространстве, словно поющее растение, мне казалось, что издавна есть между созданиями природы отношения, еще не объясненные нами, ибо мы объясняем только то, что может принести нам пользу.
Читать дальше