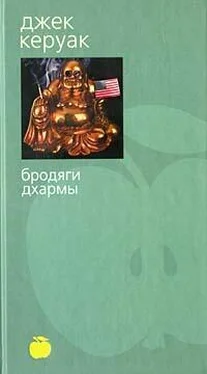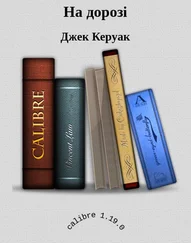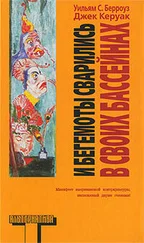— Теперь, когда зима, мальчишки вламываются в опечатанные вагоны, бьют стекла, бросают на полу бутылки — безобразничают, в общем.
Я пробрался к восточному концу депо, таща свой тяжелый мешок на весу, и поймал «призрак» на выезде, дальше стрелки с быком, расстегнул спальник, снял башмаки, подложил их под вывернутую и туго скрученную куртку, скользнул внутрь и прекрасно и радостно проспал до самого Ватсонвилля, где прятался в кустах до сигнала «путь свободен», потом забрался снова и продрых всю ночь, летя по невероятному побережью и — о Будда, твой лунный свет, о Христос, твой волнорез на море, море, Сёрф, Тангер, Гавиота, поезд мчит со скоростью восемьдесят миль в час, а я, тепленький, как гренка, в собственном спальничке, лечу себе и буду дома на Рождество. На самом же деле, я проснулся лишь около семи утра, когда поезд медленно втягивался на лос-анжелесский товарный двор, и первым делом увидел, натягивая ботинки и собирая шмутки, чтобы спрыгнуть, — железнодорожника, который махал мне и кричал:
— Добро пожаловать в Эл-Эй!
Выбираться оттуда надо было побыстрее. Смог был тяжелым, у меня от него слезились глаза, воздух вонял — настоящая преисподняя, а не Л. А. К тому же, от детишек Коди я подхватил простуду — этот старый калифорнийский вирус, — и теперь мне было погано. Я умылся водой, струйкой текшей из вагона-холодильника, набирая ее в ладони и плеская на лицо, почистил зубы, причесался и пошел в Л. А. — времени у меня оставалось до половины восьмого вечера, когда я планировал сесть на первоклассный товарняк-«зиппер» до Юмы, Аризона. В ожидании я провел жуткий день. Пил кофе в кофейнях на Скид-Роу, на южной Мэйн-стрит: кофе с пончиками — семнадцать центов.
Под вечер я уже шастал по округе, поджидая поезд. В дверях сидел какой-то бродяга, наблюдая за мной со странным интересом. Я подошел к нему поговорить. Он рассказал, что был морским пехотинцем в Патерсоне, Нью-Джерси, и через некоторое время извлек клочок бумаги, который читал иногда в поездах. То была цитата из Дигха Никайя, слова Будды. Я улыбнулся; я ничего не сказал. Он оказался замечательным говорливым бродягой — бродягой, который не пьет, хобо-идеалистом; он сказал:
— А что тут такого? Мне так нравится. Уж лучше я буду прыгать на поезда по всей стране и готовить себе еду в консервных банках на костре, чем буду богатым, и у меня будет дом и работа. Я доволен. У меня раньше был артрит, знаешь ли, я много лет лежал в больнице. Я нашел способ его вылечить, а потом пустился в путь — и вот с тех пор я в дороге.
— А как ты вылечил свой артрит? У меня самого — тромбофлебит.
— Правда? Ну тебе тоже поможет. Просто стой на голове по три минуты в день — или, может, по пять. Каждое утро, когда я просыпаюсь — хоть на дне реки, хоть прямо в поезде на ходу, — я подстилаю маленький коврик и становлюсь на голову, считаю до пятисот — это ведь как раз где-то три минуты, правда? — Его сильно беспокоило: если считать до пятисот, то составит ли это три минуты? Забавно. Наверное, в школе он был не в ладах с арифметикой.
— Ага, примерно так.
— Только делай это каждый день, и твой флебит уйдет, совсем как мой артрит. Мне, между прочим, сорок лет. И еще — перед тем, как ложиться спать, выпей горячего молока с медом, у меня всегда баночка меда с собой. — (Он выудил ее из своей котомки.) — Наливаю молоко в банку, добавляю мед и разогреваю над костром, а потом пью. Вот только эти две вещи и делаю.
— Ладно. — Я поклялся следовать его совету, поскольку он был Буддой. Результатом стало то, что примерно через три месяца мой флебит совершенно исчез и больше никогда не возникал, что само по себе удивительно. Фактически, после того раза я пытался рассказать об этом докторам, но они, наверное, думали, что я спятил. Бродяга Дхармы, Бродяга Дхармы. Я никогда не забуду этого интеллигентного еврея, бывшего морского пехотинца из Патерсона, Нью-Джерси, кем бы он там ни был, с его собственным клочком бумаги, который он читает в грубой ночи, в люльке, рядом с оттаивающими холодильниками в нигдешних промышленных формациях той Америки, которая все равно — волшебная Америка.
В семь тридцать подошел мой «зиппер», его проверили стрелочники, а я сидел в кустах, частично спрягавшись за телефонный столб. Вот он пошел — на удивление быстро, как я заметил, — и я, со своим пятидесятифунтовым рюкзаком, выскочил и потрусил рядом, пока не заметил подходящий брус автосцепки, схватился за него, подтянулся и вылез на самую крышу вагона, чтобы хорошенько осмотреть весь состав: где там будет моя платформа. Дымы святые и свечки небесные, чтоб вас всех разнесло к чертовой бабушке и в бога душу мать: поезд набирая здоровую скорость и вылетал из этого депо, а я увидел, что это — проклятый, никуда не годный восемнадцативагонник, весь запечатанний сукин сын, и на двадцати милях в час, хоть сдохни, а надо слазить — иначе придется держаться за жизнь на восьмидесяти (что на такой верхотуре невозможно), поэтому я скоренько сполз по лесенке, но сначала пришлось выцарапать пряжку лямки, которая зацепилась за настил наверху, поэтому к тому времени, как я повис на нижней ступеньке, готовый отпасть, мы ехали уже слишком быстро. Скинув рюкзак и крепко держа его одной рукой, спокойно и бездумно я сделал один шаг, надеясь на лучшее, все развернул и, лишь спотыкаясь, пробежал по инерции несколько футов — и снова стоял на безопасной земле.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу