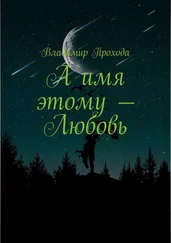Вот так. Я здесь, в комнате на улице Сен-Бенуа, а вы на кладбище Монпарнас. Это слово: nobody. Тело — это ничто, это никто. Мертвое тело — это ничто.
Мое немытое тело пока что-то еще из себя представляет, потому что я ем, пью. Мне не удается покончить с собой, таков древний запрет, он все время дает знать о себе, ты не должен никого убивать, ты не должен убивать себя. Я ни с кем не разговариваю. Я ни о чем не думаю. И тем не менее этот запрет все время напоминает о себе, может быть, именно это спасает мне жизнь, и получается так, что каждый день я говорю себе: я решу это завтра, я решу завтра, что нужно сделать, чтобы все закончилось, жизнь прекратилась. Я не испытываю страдания. Я ничего не испытываю. Я не плачу. Только когда слышу ваше имя по телевизору, только когда вижу ваше имя или фотографию в газете. Когда в «Галлимаре» появляется издание в серии «Кварто», я натыкаюсь на первой странице «Монд» на вашу фотографию, сделанную Ричардом Аведоном. И я вижу ваш взгляд. Вы смотрите прямо в объектив, у вас очень сильный взгляд на этом снимке, вы ни на кого так не смотрите, на меня, может быть, потому что в этот момент именно я смотрю на вас, как знать, нет, я думаю, что вы чувствуете себя совсем потерянной, вы видите то, что не может быть видно, словно откуда-то сверху. Я очень долго смотрю на эту фотографию и потом вырезаю ее, приклеиваю скотчем к стене напротив кровати. Я больше не смотрю на вас.
Я вижу, что для вас ничто не имеет значения, кроме одного: писать. Что я ошибался все это время, что любовь никогда не существовала, что вам была нужна только книга, которую вы писали, а я ни на что не гожусь, я ничто для вас, это правда.
За несколько недель до 3 марта 96-го вы говорите: для меня умереть ничего не значит, но для вас это очень серьезно, вы увидите, как без меня будет сложно, как сложно жить без меня. Это почти невозможно.
И вот теперь мне сложно. Даже больше, чем сложно. А вы, что вы делаете без меня, как вы живете без меня там, где вы есть? Об этом никто не может ничего знать. Я здесь, в этой комнате, с каждым днем все более и более грязной, я больше не спускаюсь, чтобы выбросить остатки еды, по комнате летают мухи, я больше не открываю окон, я больше не спускаюсь купить газеты, тем хуже, только молодой китаец приходит около семи часов вечера с едой, двумя бутылками вина и сигаретами. Я оплачиваю все банковской карточкой, она еще действует, на счету пока еще есть деньги. На этих двадцати пяти квадратных метрах скопилось уже столько пустых бутылок, что я время от времени спотыкаюсь и падаю. Почти все время я лежу в кровати. Я жду. Ваше лицо начинает исчезать, стираться, а я уже не знаю, что сделать, чтобы жизнь прекратилась, чтобы моя жизнь прекратилась, я больше ничего не представляю себе, ни о чем не думаю, я отупел от вина, мой желудок болит, я чувствую жжение, меня тошнит, везде только одна грязь, внутри и снаружи, смотреть не на что, время остановилось. И вы — в яме на Монпарнасе, в могиле, о которой никто не заботится, я уверен, там скоро все станет как здесь. Мне нужно выйти на улицу, я обещаю себе, что завтра рано утром я поймаю возле «Липп» такси, пересеку бульвар и буду там. Это ничего не стоит, я могу это сделать, у меня есть черные очки, все будет нормально, я начинаю готовиться, проходит какое-то время. Но нет, я остаюсь в комнате. Это невозможно, я не могу спуститься по лестнице, я упаду. Я не могу поехать на кладбище, я никуда не могу поехать, я остаюсь у себя, снова ложусь на кровать, пью, курю. Я жду. Пустота.
А потом это случается. Наступает 30 июля 98-го. Я говорю: если мне не удается убить себя, если ничего не получается, я не могу умереть от голода и жизнь не оставляет меня, то, значит, я должен жить, я жив, значит, у меня нет никакого желания кончать с собой, я тешу себя сказками, я глуп. И внезапно мне надоедает эта глупость, жить в грязи и помойке. Рагу из телятины, чистые простыни, ванна, чистые волосы. Все это. Все возвращается. Неожиданно. Все это очевидно.
Я звоню своей матери. Плача, прошу забрать меня. На следующее утро она приезжает на машине из Ло-э-Гаронна вместе со своим мужем Пьером. Я предупредил ее, что поправился на двадцать килограммов, что у меня трехмесячная борода, что от меня плохо пахнет и мне нужно будет помочь спуститься по лестнице. Мать ничего не отвечает на это. Она говорит только: мы приедем утром в девять часов. Ночью я бреюсь, решаю побриться, чтобы лучше выглядеть и хотя бы немного походить на человека. Если человек бреется, то это уже неплохо. Мне требуется довольно много времени, сначала я обрезаю бороду ножницами, потом бреюсь бритвой. Я смотрю на себя в зеркало. Я вижу, что это я, я живой, скоро приедет мать, она ждала моего звонка с 3 марта 1996 года, она знает, что я не умер, она вот-вот будет здесь, через несколько часов, все начинается заново, мне нужно было сказать только одно слово, чтобы все снова стало как прежде. Я — самый желанный, единственный, без всяких имен, книг, историй. Любовь, до того как ей дали название. Слова не нужны. Литература, в конце концов, ничто, нужно не заниматься литературой, а делать что-то другое, как раз то, чем занимались вы, когда писали каждую из своих книг, то, что вы все еще делаете со мной, с помощью слов и того, что затмевает литературу. Прийти к этому. Прийти к правде. К любви. И я должен был быть самым желанным, одним-единственным, и ради вас, и ради книг. Никто другой. И я все принимаю. Я здесь, вместе с вами, только ради вас, из-за вас. А вы ради меня. Больше, чем целый мир. Все истории о любви и вся любовь всего мира пройдут сквозь вот эту любовь. Какую именно? Какую любовь? Об этом никто не знает. Этого не нужно знать. Не нужно этого называть.
Читать дальше