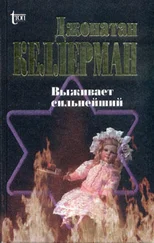Жак не видел Корошека несколько недель и ужаснулся той перемене, какая произошла в нем. Он исхудал, широкое платье болталось на нем как на вешалке, вид у него был отсутствующий, движения — суматошливые.
Корошек теперь всегда куда-то спешит, всегда бежит бегом, слегка запыхавшись и время от времени обо что-нибудь спотыкаясь. С развевающимися полами выскакивает откуда-нибудь из-за угла, выставив вперед свою желтую дыню, и часто натыкается на гостей или на служащих. Раз десять в день, а то и чаще перебегает он через площадь к своему новому отелю. При десяти и при двадцати градусах мороза, в буран — и всегда без пальто. Ведь эти бездельники берегут только вещи, которые принадлежат им самим! Они швыряют кафель, точно это ничего не стоящий мусор. Им ведь недолго и в зеркале пробить дыру!
Отопление уже включили, в здании было жарко и пахло известкой, масляной краской и лаком. Отовсюду слышался громкий стук молотков, нельзя было ступить ни шагу, не столкнувшись с кем-нибудь из рабочих, а пыль стояла такая, что просто не дай бог.
Каждый день с вокзала привозили на санях большие ящики. Их вскрывали в еще не отделанном зале ресторана. Из ящиков появлялись ванны, сверкающие краны, — как из серебра, — арматура, никелированные души. В новом отеле стояла страшная жара. Корошек обливался потом. Марморош открыл Корошеку дополнительный кредит: пятьдесят тысяч. Это всё, что удалось из него выжать, да и то лишь под вексель. Больше он ничего не может сделать, сказал Марморош, при всем своем желании не может! Он дал маху с одной клиенткой, дамой из высшего общества, которая постоянно толковала ему о своих недвижимостях, а потом оказалось, что у нее за душой только лес в горах, стоимостью в десять тысяч. И теперь он сам, как он выразился, висит между небом и землей.
Корошек вытирает мокрое лицо, смотрит на зеркала, на умывальники и белые унитазы и думает о счетах, о письмах с напоминаниями кредиторов, о векселях. И опять бежит в свою старую гостиницу.
Жак жил на нефтепромыслах в одном из дешевых дачных домиков, которые компания построила для директоров и инженеров. Из восьми комнат он обставил только три, с пуританской простотой, без выдумки и без души: ведь он не останется здесь навеки! До занавесок у него еще руки не дошли, в комнатах лежало несколько дешевых ковров, да и то лишь потому, что с пола очень дуло. Жак не был лишен вкуса, но временно отказывался от красоты и изящества в быту и от всяких финтифлюшек. Всё это придет позже, когда появится седина в волосах. Мир велик, и жизнь еще впереди!
Дом стоял среди громоздившихся друг на друга буровых вышек, которые тянулись далеко в глубь Дубового леса. Здесь проходил самый широкий бульвар нефтяного города. Но улица была еще в жалком состоянии. Тяжелые подводы проделали в глине глубокие колеи, колеи засохли, так что на автомобиле по этой дороге было не пробраться. Даже на широком, бесконечном бульваре то тут, то там беззастенчиво торчали отдельные буровые вышки, а иногда мимо дома пробегал паровозик узкоколейки, на котором стоял человек с красным флагом и громко звонил в колокол. Нефтяной город был невыносимо безобразен. Это признавал всякий. Но Жака это нисколько не огорчало. Что его огорчало, так это невыносимая скука здесь, в горах!
А скука была просто смертная. Он раскаивался, что выехал из «Траяна», и уже попросил оставить за собой несколько комнат в новом отеле Корошека. Зима была суровая и длинная. Порой нефтяной город скрывался в пелене дыма и морозного тумана, так что даже в полдень становилось темно, как в погребе. Большинство директоров и инженеров, которые жили на нефтепромыслах, перевезли сюда свои семьи, и их дома по вечерам были ярко освещены. Мирбах пригласил как-то Жака к себе на музыкальный вечер. Сам Мирбах играл на рояле, его жена была талантливой скрипачкой, но Жак сразу же дал зарок никогда больше не посещать музыкальных вечеров Мирбаха, куда все так мечтали попасть. Он там смертельно скучал.
И вообще в семейных домах он чувствовал себя неуютно. Иногда по вечерам он играл в шахматы с Майером в рабочей столовой, иногда ходил в кино, в театр. Изредка бывал в «Парадизе» и ухаживал там за Каролой и маленькой, черной как смоль, французской певичкой, только недавно приехавшей сюда. Один вечер в неделю он проводил у Феликса, иногда ужинал у Франциски. Франциска вернулась из Вены. Она привезла целый вагон картин, бронзы и ковров, которыми набила весь свой дом. Всё это была дорогая варварская безвкусица, над которой можно только смеяться, но надо же и Франциске чему-нибудь радоваться!
Читать дальше