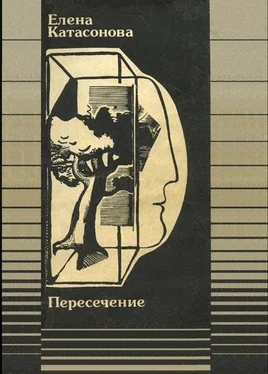Да какая там страсть, когда ко всему прочему в Индии запрещены аборты? Выход, конечно, найден: нашим помогают в посольстве. Оно — территория Советского Союза, и потому хирург Гири законов своей страны не преступает. Но сколько же с этим хлопот, неловкости, почти позора! Разрешение дает сам посол, операцию делают под общим наркозом, на диване, потому что кресла нет, ассистирует посольский доктор и муж «пострадавшей». Нет-нет, только не это! Таня присутствует каждый раз как переводчица, возвращается с затуманенными эфиром глазами, бранит мужиков, презрительно жалеет баб. Нет, у них ничего такого быть не должно! И «ничего такого» у них действительно нет. Но заодно нет и другого…
Как странно, что он терпел эту сумеречную жизнь, будто не видел, к чему все катится — быстрей и быстрей. Хотя, вообще говоря, они жили мирно, не ссорились. И потом — он гордился Таней: ее английским, ее умением держать себя в обществе, ее видом, Натка против нее — толстуха. А впереди их ждала Москва, их общий сын, работа — для мужчины это, в конце концов, главное; их ждали общие приятные хлопоты: машина, новый, усвоенный здесь образ жизни — деньги на него были. Вот только любовь… Что ж, не дается в руки Синяя птица…
Перед самой его Калькуттой они с Татьяной побывали в старинном индусском храме любви, проторчали там часа три, если не больше: не могли оторваться от любовных скульптурных групп, непривычно смелых для европейца. По дороге домой Павел попробовал расшифровать Тане индуисскую теорию, почти религию любви: любовь — это приобщение к божеству, высшее постижение жизни, проникновение в самую суть бытия. Таня слушала, поглядывая на Павла, не насмешничала, не перебивала, о чем-то думала. Может, о том же, о чем думал он? Почему, ну почему они лишены того, на чем держится, говорят, мир, о чем пишут, слагают стихи во все времена? За что такая кара? Дурацкий, пошлый стриптиз растревожил, возродил забытую страсть, вернул надежду. Страшная штука — надежда. Это она нас убивает…
Павел ворвался в дом, как когда-то, в давние времена: «Танька, я соскучился!» Но надежда потешилась над ним и ушла — ничего похожего на то, что почувствовал он в полутемном ночном ресторане, не произошло. Одинокий и очень несчастный Павел постарался заснуть, а утром, помятый и хмурый, он пришел на работу и мрачно засел за дела.
Скоро он изменил Тане, изменил глупо, наспех, стыдясь себя и своей партнерши — жены дежурного коменданта. Потом он спал с этой дурой еще несколько раз, бормотал какие-то нежности, зарываясь лицом в ее сделанный еще в Москве перманент. А потом они с Таней вернулись в Союз.
Они устали и изнервничались за дорогу. Нудно гудели моторы, улыбалась кукольная стюардесса, проходя по салону на тонких, как стрелочки, каблучках. Они пили и ели, листали журналы и каталог мод. Время тянулось мучительно медленно — бесконечный, вытянутый перелетом с востока на запад день. Таня курила сигарету за сигаретой, Павел сосал погасшую трубку. Что ждет их на родине? Они так долго не видели Сашу! На фотографиях он здорово изменился: стрижка ежиком, серьезный упрямый взгляд. Три с лишним года он был без них, мерз в морозы, мок под дождем, летом болтался у тети Лизы. Софья Ивановна писала о ней сдержанно, и Павел понимал, что старухи не ладят, что теща только терпит его сентиментальную мачеху — пользуется ее услугами и потому терпит.
А он здесь жил без мороза и снега, пил джин, придирчиво выбирал по дипломатическому каталогу самый лучший магнитофон — со стереофонией, потом, войдя во вкус, — еще один, моно, и еще — на батарейках, потом оформлял документы на машину и спорил с Таней о кооперативе.
Павел сидел, вцепившись в подлокотники кресла, и терзал себя. Здесь, в самолете, он словно забыл, что много работал, перечитал гору нужных книг, кое-что, кажется, понял в сложных проблемах сотрудничества и, пожалуй, готов к новой научной теме. И потом — сына оставили в Москве для его же блага: чтобы была у него отдельная комната, чтобы потом, когда подрастет, он слушал хорошую музыку через новейшую аппаратуру и не знал бы той жгучей зависти, какую познал в своем отрочестве Павел, когда впервые увидел заграничный магнитофон.
— Надо будет всерьез им заняться, — отвечая собственным мыслям, сказал Павел, и Таня благодарно улыбнулась и сжала ему руку.
— Если б ты знал, как я соскучилась! Если б знал… — У нее дрогнул голос, она отвернулась к затянутому шелковой шторкой иллюминатору.
Павел держал ее руку, смотрел на строгий профиль и повторял:
Читать дальше