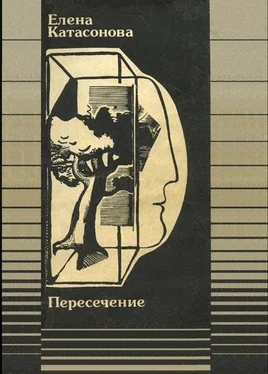Павел много ездил — побывал в Бомбее, Калькутте, Джайпуре. Бомбей утомил его сутолокой и шумом, массой бездомных, спящих прямо на улицах на узеньких раскладушках — чарпаи, восхитил огромным аквариумом при Институте наук — ну и звери водятся в океане!.. Впечатление от Бомбея осталось двойственным. А вот Калькутта понравилась по-настоящему. Может, потому, что Павел приехал туда один, — доверили, слава богу, разобраться в путанице накладных на наше оборудование, прибывшее морем.
Огромный, пестрый, переполненный людьми город оглушил его: гудели машины, пищали клаксоны рикш, на целые кварталы тянулись плотные пробки разноликих повозок и велосипедов, пронырливые мальчишки тонкими голосами клянчили мелкие монетки — пайсы. Чумазый сорванец весело крикнул Павлу:
— Саиб, тен рупис! [4] Господин, дай десять рупий!
Павел расхохотался: молодец парень — будет он размениваться на какую-то мелочь! Г они десять рупий — и все!
— Иди, иди, — сказал он по-русски. — На вас тут не напасешься.
Ему было легко и свободно — одному, в шумном городе, вдали от жениных глаз, с крупными купюрами в кожаном солидном бумажнике. Все его калькуттские расходы были тщательно вычислены Таней, но кое-что он сумел утаить, и это «кое-что» предназначалось на стриптиз.
В новой Индии не было места такого рода зрелищам, и лишь для Калькутты — порта, где по улицам слонялись в поисках развлечений матросы со всех концов света, — делалось исключение.
Павел пошел смотреть «роскошную Лоллу»— так ее величала реклама — ближе к полуночи, успешно завершив изнурительные переговоры в порту.
Напряжение в полутемном зале нагнеталось с большим искусством. Пела юная девушка в длинном закрытом платье из мягкой золотистой парчи. Звенели на тонких запястьях браслеты, чуть покачивалась в такт переливчатой восточной мелодии маленькая головка с очами на пол-лица. А потом тревожно забили барабаны, луч прожектора пронзил наступившую вдруг тьму и высветил танцовщицу.
Лолла и в самом деле была хороша — высокая, стройная, светлокожая, в длинном норковом манто. Одним движением она сбросила манто на пол и начала танец. Лолла снимала одежды томительно медленно, потом, когда осталось снять главное, подошла, неслышно ступая босыми ногами, к столику, за которым сидел Павел, и жестом потребовала сигарету. Павел вскочил, торопливо протянул пачку надменной Лолле. Она вытянула сигарету, посмеиваясь, ждала огня. Взмокший от растерянности и всеобщего внимания, он чиркал зажигалкой, но летели только жалкие искры, и Лолла, расхохотавшись, обратила раскрашенный лик к высокому прямому англичанину, сидевшему за соседним столиком.
Гулко стучало сердце, кружилась тяжелая от выпитого голова, луч прожектора слепил глаза. Танцовщица бросила горящую сигарету кому-то в бокал, сделала неуловимо гибкое движение, и в ту же минуту слепящий луч взлетел к потолку, а когда вернулся вниз на подмостки, Лоллы уже не было. Она исчезла, оставив всех этих накаленных мужчин с носом…
Павел выбрался из ночного заведения на рассвете, когда на востоке уже багровело высокое небо и стремительно таяла синева над головой.
Он добрел до гостиницы, рухнул на широкую, под дурацким балдахином кровать, машинально нажал кнопку фена, который тут же бесшумно закрутился под потолком, и утонул в омуте чугунного сна. Он вынырнул из этого омута только вечером — с дурной головой, кислым противным ртом и сосущей болью в желудке. Он слишком много выпил вчера, слишком уж много… Но не потому ведь такая тоска на душе? Не потому все так гадко вокруг, все-все немило? Или это оттого, что он промотал столько рупий, да еще на стриптиз? Проклятая Лолла его доконала — при его-то голодном пайке.
Господи, что делает с ним Татьяна! Супружеские отношения… Хорошо бы вспомнить, когда это было в последний раз? «Очень жарко…»— обычная ее отговорка. И еще: «Ты же знаешь, какие у меня опасные дни…» Она говорит так, и он перебирается на свою кровать, чуть раздосадованный, чуть смущенный, зажигает настольную лампу, просматривает вечерние газеты, такие же толстые, как дневные. Но толстые они из-за рекламы, а потому вырезать из них нечего, и он гасит свет, притворно потягивается, желает Тане спокойной ночи и засыпает. И это в его тридцать с чем-то там лет! А что будет дальше?
Может быть, все так живут? Скрепленные общим домом, общими планами и, конечно, детьми. «Невидимые миру слезы…» Жизнь без нежности, без душевной привязанности, даже без страсти.
Читать дальше