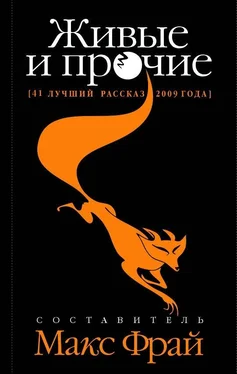Иногда он пропадал на несколько недель, и тогда я тупо шаталась по комнатам, перечитывала те две книжки, чтоб им сгореть, затем бездумно строгала салаг — в таких количествах, что им можно было накормить группу продленного дня. Каждый вечер я неслась домой, шумно топая по шаткой деревянной лестнице, и дрожащими пальцами засовывала ключ в скважину в надежде, что замок провернется — ведь у него же есть ключ, он должен сегодня прийти, обязательно, хоть раз. Но дверь открывалась безо всяких приключений, я брела на кухню, доставала салат, томно киснущий в холодильнике, отправляла его в унитаз и усаживалась на подоконнике, поджав к подбородку коленки. Но Марик всегда объявлялся — именно тогда, когда мне казалось, что я больше никогда его не увижу, — и тогда желание удушить капроновой леской из соседского спиннинга возрастало с утроенной силой. Это была какая-то игра с недоступными мне правилами, мутными целями и заведомо отсутствующим главным призом, чего нельзя было сказать о победителе. The winner takes all: ключи от барачной халабуды в самом, надо сказать, центральном районе, подшивку «Иностранки», сувенирное датское мыло и голову соперника со всеми ее куриными потрохами. Иногда ночью, после обязательного салата, я долго смотрела в потолок, прислушиваясь к сопению из угла, и шевелила губами, пытаясь понять, где у него кнопка, и не могла. И жутко злилась на себя из-за страха — вдруг это был последний вечер, а я ничего не успела — ни отыграться, ни толком удушить, ни получить хоть какие-то вразумительные объяснения, при том что достаточно смутно представляла себе, объяснения чего я хочу получить, и даже подозревала, что лучше их не получать, ни к чему это вовсе, и дело тут не только в Марике, — и это было еще страшнее.
The winner takes all, однажды и правда был последний вечер. То, что он был последним, я поняла несколько недель спустя, приехав от больной тетушки, к которой меня срочно вызвали — досмотреть некому, у детей все равно каникулы, посидела бы со старухой. Я помчалась впопыхах; выхаживала, драила огромный дом, не до всего мне было, а вернувшись, столкнулась с соседкой.
— Тебе тут конверт, приходил такой — тщедушный, воспитанный. Нет, ничего не говорил, просил передать, все, баста.
Я стояла и молча смотрела на ключи, и мне почти не было грустно, ну разве что чуть-чуть, ведь хоть что-то мы успели — в тот по-настоящему последний вечер, задолго до моего отъезда. После этого вечера были другие, не много, но были — привычные, покойные, с уютной руганью и жухлым салатом, а потом это все закончилось, как будто и не было, да оно и не могло быть по-другому, оно в принципе не могло быть, как понимаю теперь. Но до сих пор, стоит мне закрыть глаза, я вижу, как пускаю в тарелку с салатом адскую смесь луковых и мелодраматических соплей, в тысячный раз костеря себя на все лады за наивную бабскую откровенность на почве новой попытки отдать дань фертильности; Марик сидит на облупленном подоконнике, беспечно болтает ногами, смачно вгрызается в лежалую грушу и вдруг говорит:
— Просто ты смешная.
Я зависаю над тарелкой, бестолково кручу головой: что, что?
— Ну, я хожу сюда, потому что ты смешная. — Он делает неопределенный жест рукой: — Я не могу объяснить. Только смешное имеет смысл и теряет его, как только смешным быть перестает, потому что приходится начинать думать, а как только ты начал думать — все, каюк, пора делать ноги. И мне нравится, что я живу смешную жизнь в смешном городе, слушаю смешную музыку, курю смешные сигареты, и все, что я делаю, довольно-таки смешно, если так подумать. Если подумать, конечно, — чего лучше не делать, — я надеюсь, ты понимаешь, о чем я.
Я глупо хлопаю глазами и обалдело смотрю в прямоугольник окна. За окном садится дородное июньское солнце, слышно, как звенит чей-то велосипед, гулко цокают каблуки, впиваясь в брусчатку, и я не могу разглядеть лица Марика, я даже на какой-то миг забываю, как он выглядит, но это совершенно неважно; из-за его спины льется свет, он пробивается через щели между руками и мягко обволакивает его голову, я закрываю глаза, и на изнанке век остается солнечная клякса. Ложка медленно вязнет в огурцах, Марик говорит что-то очень певучее и, видимо, жутко важное, но я не хочу об этом думать, потому что лучше вообще не думать, как он прав, ох. Алая клякса перед глазами распадается на точки, в шею мне утыкается острый подбородок, прохладные руки бережно обхватывают шею — десятью подушечками. Салат безнадежно завален, мы медленно раскачиваемся, по векам бегут губы — мелко, сухо. Клякса постепенно растворяется и перед тем, как окончательно исчезнуть, складывается в тот самый фрагмент из нижнего правого угла, который казался безнадежно потерянным. Это лук, все это лук, я закидываю голову и смеюсь, вытягивая вперед указательные пальцы, пытаясь нащупать губы напротив, не надо ничего говорить, пожалуйста, это и правда очень смешно, как я раньше этого не понимала, только ничего не говори, пожалуйста, а я обещаю, что не открою глаза, я не буду ничего портить, только не надо ничего говорить.
Читать дальше