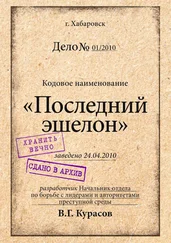— Зря кипятишься, Коля! Я всегда и где угодно буду утверждать, что ты дурак, ибо это есть абсолютная истина, так сказать, в конечной инстанции. А если ты в этом сомневаешься, я могу написать тебе соответствующую справку.
С той ночи прошло вот уке сорок шесть лет, но я помню все до мельчайших подробностей. Зыков стоял посреди комнаты в своих грязных подштанниках (трусов тогда зимой почему-то не носили), от яростной злобы, помноженной на радость его прямо-таки трясло. «На, пиши!» — прохрипел он, подходя к моей койке и протягивая огрызок карандаша и тетрадочный листок. Ребята на своих койках замерли. «Коля, — спокойно и даже с некоторой нежностью сказал я, — кто же так делает? Это важный документ, а ты мне даешь карандаш. Потрудись обмакнуть перо в чернила и подай мне. И еще дай вон ту книгу, чтобы подложить под бумагу». Своими дрожащими руками он подал мне ручку и книгу. Боже, до чего же он был мерзок! Я решил не хохмить, а написал коротко и четко:
Справка
Дана сия Зыкову Николаю Макаровичу в том, что он действительно является дураком.
…февраля 1937 г… И. Шкловский
Отдав ему справку, я сказал: «А теперь можешь тушить свет — пожалуй, уже время!»
Через неделю, когда я по какому-то неотложному делу зашел на факультет, я сразу же всем существом почувствовал, что обстановка резко изменилась. Меня встречали приветливые лица, сочувственно спрашивали, почему редко появляюсь, уж не заболел ли? И черные тучи, сгустившиеся на моем небосклоне, полностью рассеялись.
Много лет спустя, мой старый друг по аспирантуре, ныне покойный Юрий Наумович Липский, поведал мне, что же тогда случилось. Зыков написал в партком факультета, возглавляемый Липским, заявление, в котором клеветнически обвинял меня в троцкистской агитации. Негодяй знал, что делает! Ото заявление по тем временам означало просто убийство из-за угла, причем безнаказанное.
Партком обязан был его рассмотреть и сделать выводы.
«Твое дело было безнадежно, — сказал мне Юра. — Очень я тебя, дурачка, жалел, но…» И вдруг на очередное заседание парткома врывается пышущий радостным гневом Зыков и протягивает какую-то смятую бумажку. «Вам нужны еще доказательства антисоветской деятельности Шкловского — вот прочтите». Члены парткома прочли и грохнули от смеха — то была моя справка. «А ты ведь действительно дурак, Зыков. Пошел вон отсюда», — сказал Липский, и тут же дело было прекращено.
Финал этой драматической истории можно объяснить только тем, что я родился в рубашке. За годы моей жизни в Останкино «эффект рубашки» сработал еще несколько раз. Ну, хотя бы тогда, когда в начале лета 1937 г. я получил повестку — явиться па Лубянку. Этот визит я никогда не забуду. Особенно запомнились лифты и длинные пустые коридоры страшного дома. Помню, что я должен был вжаться в стенку, пропуская идущего навстречу мне человека с отведенными назад руками, за которым в трех шагах следовал конвоир. По лицу человека текла кровь. Он был почему-то странно спокоен. Их там на Лубянке интересовали некоторые подробности жизни бедного Коли Рачковского. Я что-то долдонил о своеобразной манере Колиной игры в шахматы — он раздражающе долго думал. Ничего другого о несчастном я не знал. Не добившись от меня никакого толку, следователь подписал пропуск па выход. Никогда мне не забыть восхитительного состояния души и тела, когда за мной закрылась тяжелая дверь, и я оказался на залитой солнцем московской улице. Помню, меня захлестнуло огромное чувство любви к людям, которые как ни в чем ни бывало сновали взад и вперед. А я-то думал, что за эти два часа мир перевернулся…
Конечно, мне страшно везло. Впрочем, так же повезло и всему моему поколению ровесников Октября, сумевших дожить до начала выполнения продовольственной программы. Только интересно бы узнать — сколько нас осталось, таких «везунчиков»?
Как-то раз, лет 10 тому назад, я сидел в одном из маленьких, уютных холлов Малеевки и беседовал с журналисткой Ольгой Георгиевной Чайковской, известной своими статьями на криминально-судебные темы. Послеобеденное мартовское солнце заливало холл, окрашивая его в золотистый оттенок. Было тепло и очень как-то уютно, да и Ольга Георгиевна — женщина тонкого ума и большого очарования. Когда-то она была очень красива — это было и сейчас видно, тем более, что Ольга Георгиевна, как и все бывшие красавицы, о разрушительной работе времени просто не хотела знать — такова уж женская природа… До этого я встречал Ольгу Георгиевну несколько раз у Турока, так что мы были немного знакомы. Кроме нас в дальнем углу холла сидел, уткнувшись в газету Евгений Богат, широко известный по своим огромным статьям в «Литературке» на тему о чрезвычайно высоком морально — этическом уровне советского человека.
Читать дальше
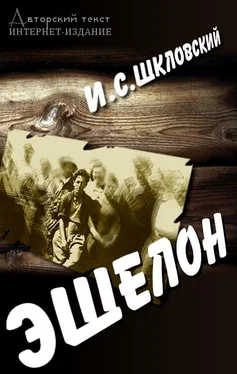



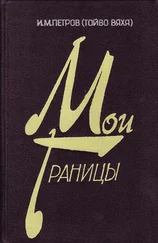



![Леонид Лысенко - «Чёрный эшелон» [Повесть]](/books/416582/leonid-lysenko-chernyj-eshelon-povest-thumb.webp)