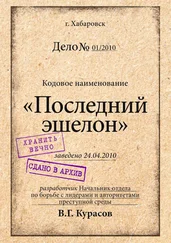Когда глубокой осенью я вернулся, Сергей Матвеевич Колосков сообщил мне, что он лихо «сделал» бедного Шварцмана, получив еще 500 рублей (старыми, конечно) за рецензирование. И тут же поведал совершенно поразившую меня новость. Получив очередную порцию отрицательных рецензий, Шварцман отколол номер: он заперся в своей комнате (где жил один) и оставил своим соседям записку. Текст записки буквально такой: «Обскуранты от науки отвергли мою теорию. В знак протеста и во имя науки я объявляю голодовку и прекращаю прием пищи». Через неделю обеспокоенные соседи взломали дверь комнаты и бедный автор космогонических гипотез в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Рассказывая эту печальную историю, крупный, переполненный здоровьем Сергей Матвеевич весело смеялся, а мне стало как-то не по себе.
Хорошо помню случившуюся через несколько месяцев после описанных событий какую-то очередную «космогонку» (так на нашем сленге назывались навязшие в зубах словопрения по т. н. «космогонической проблеме»). Совершенно не помню ни предмета словоизлияний, ни даже места, где это действо происходило. Однако до мельчайших подробностей мне врезалось в память появление, вернее, явление Шварцмана астрономическому народу. Во время перерыва между докладами появился и стал нарастать панический слух: «Идет Шварцман!» И все (я не преувеличиваю) бросились врассыпную — ибо почти каждый был замешан в рецензировании его муторных трудов. На что Алла Генриховна Масевич — «первая леди космогонок» — дама выдержанная, и та трусцой куда-то убежала, чуть ли не в туалет. Я же, по причине сильной близорукости, как-то замешкался, а когда опомнился, было поздно: навстречу мне по длинному коридору шла маленькая щуплая фигурка. Это и был ставший уже легендарным Шварцман. Я, словно загипнотизированный, неподвижно стоял, глупо уставившись на маленького человечка. Помню его совершенно белое молодое лицо и огромные горящие глаза. «Вы отвергли мою теорию!» — решительно сказал он. Я стал что-то блеять, мол, это не я, это Сережка и пр. «Вы отвергли мою теорию! Я Вам докажу!» — и с этими словами он, преисполненный достоинства, пошел обратно. И опять коридор наполнился «легальными» космогонистами, которые о чем-то привычно трепались. На душе у меня было пакостно — никак не мог забыть его глаз.
Потом я опять уехал на лето в Симеизскую обсерваторию, а когда в конце сентября 1951 года вернулся в Москву и в первый же день пошел в ГАИШ, я встретил уже поджидавшего меня Шварцмана. Физиономия у меня, естественно, вытянулась. Без всяких предисловий он сказал: «Я принес!» — и протянул мне завернутый в бумагу переплетенный фолиант, по весу соизмеримый с довольно пухлой докторской диссертацией. «Пожалуй, страниц на 300 потянет», — уныло подумал я и машинально попросил автора заглянуть через недельку. Не говоря ни слова, Шварцман ушел.
Незаметно пролетел остаток рабочего дня, наполненный главным образом обменом новостями с друзьями и сотрудниками. Уходя из института, я заметил на своем столе сверток и, морщась, как от зубной боли, вспомнил Шварцмана. Машинально я развернул сверток и обмер. На титульном листе огромной машинописной рукописи стояло:
Д. Шварцман
КОСМОГОНИЧЕСКАЯ ПОЭМА
Мне стало совсем нехорошо, когда я принялся читать это уникальное произведение. Все 263 страницы были заполнены чеканным «онегинским» ямбом. Довольно часто на страницах этого чудовищного труда попадались формулы (я их живо вспомнил…), которые зарифмовать все же не удалось. Чтобы вы могли составить какое-то представление о качестве этих стихов, приведу начало вступления к «Космогонической поэме».
Боюсь, что странный выбор темы
Тебя, читатель мой, смутит.
В наш век не принято поэмы
Писать научные. Претит
Мужам науки музы лепет,
Кудрявый слог и рифмы звон.
Но что поделать, если трепет,
Когда в расчеты погружен
Напополам с мечтой летучей…
Вот так-то! В поэме довольно много примечаний, и все они зарифмованы. Шварцман непрерывно ведет полемику с пулковским астрономом (позже директором этой обсерватории и членом-корреспондентом Академии наук), большим путаником В. А. Кратом. Сколько язвительности, даже тонкой иронии «… что — тренье есть работы трата? (слова доподлинные Крата…») и вместе с тем — полная корректность и благожелательность к оппоненту! А ведь сколько кровушки выпили у Шварцмана коллеги Крата! Тут любой бы ожесточился, но не таков Шварцман. Вместе с тем, он дитя своего схоластического времени. Например как аргумент в полемике Шварцман советует: «…Раскройте Энгельса, дружок!..» Ничего не попишешь — к такой аргументации прибегали тогда не только психи… Потрясенный «Космогонической поэмой», я просто не знал, что мне делать.
Читать дальше
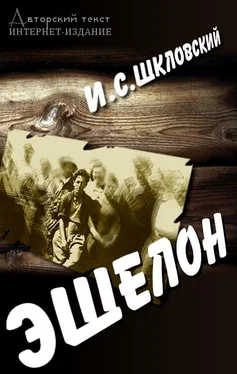



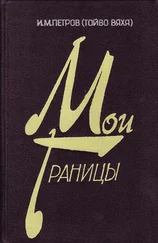



![Леонид Лысенко - «Чёрный эшелон» [Повесть]](/books/416582/leonid-lysenko-chernyj-eshelon-povest-thumb.webp)