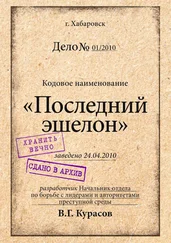— Могу ли я заказать в сухумской синагоге кадиш по одному очень хорошему еврею?
— Конечно! Как его зовут?
— Григорий Абрамович.
— Значит, Герш бен Аврогом! Я найду человека, который будет делать за него в синагоге кадиш и прослежу, чтобы все было как надо!
Для непосвященных, в том числе и современных евреев, скажу, что кадиш — это заупокойная молитва. В детстве я читал кадиш по отцу Конечно, на языке предков) в маленькой синагоге своего родного Глухова. По традиции кадиш должен читать сын, достигший «бар мицве», т. е.12 лет — возраста совершеннолетия. Это для сирот, для остальных этот возраст — 13 лет. У меня остались очень смутные воспоминания о том, как я читал кадиш. Помню только, что это было долго, по крайней мере, полдня — меня к тому готовил старик, друг покойного отца.
Я был несколько удивлен, когда на следующий день тесть Агреста сказал мне, что он договорился с одним человеком, тот будет читать кадиш по полному канону ежедневно в течение года, за что ему надо заплатить 2000 рублей. Я не был готов к такому обороту дела — у меня просто не было с собой такой суммы денег. Оказывается, в детстве я читал по отцу «адаптированный вариант» кадиша, а настоящий кадиш — штука очень серьезная… Но уже ходу назад у меня не было, я отдал 1000 рублей, обещав через месяц дослать остальные.
И в течение года сухумскую синагогу оглашали древние слова поминальных молитв за Герш бен Аврогома — хорошего человека.
На душе у меня стало очень легко, как будто я исполнил обет. Григорий Абрамович был глубоко верующим человеком, я это хорошо знал, он делился этим со мной. Конечно, он не был традиционным иудаистом. Его вера носила пантеистическую окраску, напоминая веру его великого соплеменника Альберта Эйнштейна. С полным основанием я мог считать, что выполнил долг перед памятью замечательного человека и астронома Григория Абрамовича Шайна.
Поздней осенью я узнал, что в Ялте состоялся суд. По английским правилам разбиравшееся дело следовало бы назвать «Шайн против Амбарцумяна…», хотя фамилия Инны была Санникова. [13] Т.е. она не была юридически удочерена Григорием Абрамовичем. Однако на суде свидетели показали, что она была фактически удочерена.
Решение суда было окончательно и неоспоримо: весь миллион плюс академическая дача присуждались единственной законной наследнице Инне Санниковой. Последняя быстренько выставила армянского женишка. Доходили до меня слухи, что она ударилась в разгул. Можно себе представить дикую злобу Амбарцумянихи. Сам Виктор Амазаспович фарисейски делал вид, что он к этому не имеет отношения. Почему-то Вера Федоровна решила, что Инну подговорил опротестовать завещание… Соломон Борисович Пикельнер — этот чистейший из людей. Я глубоко убежден, что едва ли не важнейшей причиной его провалов на выборах в Академию наук была зоологическая злоба Амбарцумяна по причине этого гнусного навета. Но это уже другой сюжет…
Я очень любил жить в дальних деревянных коттеджах Дома творчества писателей в Малеевке, особенно в самом удаленном от главного корпуса — девятом. Сейчас они закрыты в связи с постройкой двух новых каменных корпусов, и это очень жалко. Писатели предпочитали (и предпочитают) селиться в главном корпусе, имеющим вид старинной боярской усадьбы, хотя и построенном в пятидесятых годах нашего столетия — обстоятельство, объясняющее происхождение термина «сталинский ампир». Основания для такого предпочтения — главным образом, соображения престижного характера, хотя расчеты, связанные с коммунальными удобствами, также играют немалую роль. Это облегчает получение в литфонде путевок в коттеджи лицам, к изящной словесности прямого отношения не имеющим. Поэтому в этих деревянных коттеджах можно встретить прелюбопытнейших обитателей.
На этот раз, в самом конце зимы 1975 года, моим единственным соседом по девятому коттеджу был довольно известный науч-поп журналист Виктор Давыдович Пекелис. Третья комната этого трехкомнатного домика почему-то пустовала. Странный человек был этот Пекелис: практически все время, свободное от обедов, завтраков и ужинов, он стучал на машинке — по-видимому, что-то кропал по части своего науч-попа. Ни разу он не выходил в чудесные здешние леса на лыжах, хотя был далеко не стар и вполне здоров. На мои недоуменные вопросы занудно отвечал в том смысле, что, мол, вам, ученым, хорошо, у вас зарплата идет, а каково-то мне и т. д. В конце концов — это его дело, решил я. Пусть себе сидит в четырех прокуренных стенах — а дни стояли на диво прекрасные. Я давно заметил, что под Москвой в конце февраля — начале марта, как правило, стоит отменная погода. Утром — мороз градусов этак под двадцать, а днем — ослепительно яркое солнце на синем-синем небе, и притом довольно тепло — всего лишь минус три-пять. Как хороши в эти дни заповедные окрестные леса, и как скользят лыжи! Обычно я выходил на лыжах в лес часов в 11, а возвращался к обеду. Так было и в это солнечное утро. Я готовил в коридоре коттеджа свои лыжи, когда Пекелис приоткрыл дверь своей комнаты и вкрадчиво заметил: «Может быть, в виде исключения, Вы отмените свою лыжную прогулку? Ко мне приедут не совсем обычные гости, я полагаю, что Вам будет интересно с ними познакомиться». «Еще чего», — подумал я и сухо сказал, что такая погода, какая будет сегодня, бывает далеко не всегда, мол, благодарю, но все же предпочитаю лыжи. Действительно, денек выдался на славу, я накатался всласть и усталый, с мыслями о горячем борще, ожидающем меня в столовой, находящейся в главном корпусе, подъехал к дверям моего коттеджа. Когда я снимал лыжи, мое внимание привлекла необыкновенно шикарная машина явно заграничного происхождения, которая, нелепо уткнувшись в огромный сугроб, стояла рядом. «Гости Пекелиса!» — подумал я и, стряхивая снег с ботинок, вошел в коридорчик. Из комнаты Пекелиса раздавался шум — судя по всему, там было весело. Приоткрылась дверь, и раскрасневшийся Пекелис пригласил меня войти.
Читать дальше
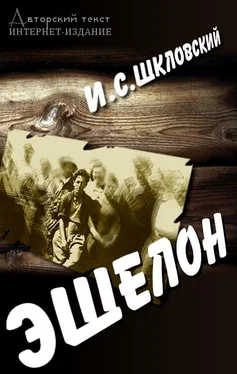



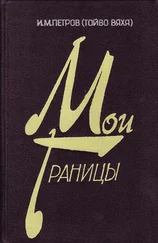



![Леонид Лысенко - «Чёрный эшелон» [Повесть]](/books/416582/leonid-lysenko-chernyj-eshelon-povest-thumb.webp)