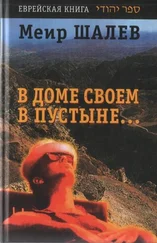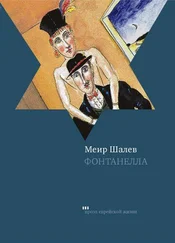— Кто это там, Барух? Это не Боденкин?
Он самый, — сказал я.
Ицхак Боденкин, один из первых поселенцев Иорданской долины, почти глухой, с бессильным, искривленным, как прошлогодняя травинка, ртом, медленно выпалывал грядку цинний возле ворот.
— Что он здесь делает?
— Пришел неделю назад, — объяснил Бускила. — Сбежал из кибуцного изолятора. Пришел пешком, полумертвый, и попросился работать здесь, пока не умрет совсем.
— И вот так он живет? Как собака, под открытым небом?
— Ну почему же! — возмутился я. — Он просто хочет поработать немного тяпкой, а вечером он идет спать в коровник.
— В коровник?
— Я предложил ему пойти ко мне во времянку, но ему хочется ночевать с Зайцером.
— Кладбище мастодонтов, — пробормотал Пинес.
Он подошел к Боденкину и поздоровался. Старик не узнал его.
— Не мешай работать, сынок, — проворчал он. — После обеда я возьму тебя на ярмарку и куплю тебе сахарного петушка.
— Он меня не помнит, — сказал Пинес, возвращаясь. — Мы когда-то проработали с ним несколько дней на грейпфрутовой плантации возле насосной станции на Иордане. Мазали стволы черной мазью твоего дедушки. Там бегали крысы величиной с кошку, совершенно обезумевшие от жары и одиночества. Они забирались на цитрусовые деревья и грызли кору. Страшные раны.
Он сел устало и печально.
— Мы даже представить себе не могли, чем это кончится, — сказал он. — Рылову следовало прогнать этого подстрекателя Зейтуни, содрать с него кожу своим кнутом. «Ударом бича и укусом скорпиона» [121] «Ударом бича и укусом скорпиона» — ср. «…отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». 3-я Царств, 12:11.
.
На общий пляж, что к югу от моего дома, я спускаюсь только по вечерам. Пляжники и серфистки уже ушли, вокруг, на всем берегу, никого. На песке валяются недоеденные бутерброды, скелеты виноградных гроздьев, забытые сандалии. Детские крики все еще висят в воздухе, как грязные тряпки, медленно растворяясь в тишине. Вдали хищно покачивается на пенных гребнях тяжелый серый сторожевой катер, высматривая добычу.
Давид, старик с шезлонгами, замечает меня уже издали и ставит чайник на маленькую газовую горелку под своим навесом из циновок. Я всегда приношу ему что-нибудь поесть, или бутылку горячительного из подвалов банкира, или очередной том из моей библиотеки. Давид любит книги и читает по-испански и по-французски.
«Меня зовут Давид, как вам нравится мой вид», — любит он представляться в рифму и при этом посмеивается хриплым, заржавевшим смехом. У него большие белые зубы и сморщенное тело, выдубленное солнечной жарой.
Мы пьем крепкий чай и медленно беседуем, а песок вокруг нас кишмя кишит маленькими желтоватыми береговыми крабами на тонких членистых ножках.
«Они чистят для меня берег», — говорит Давид.
Крабы выскакивают из своих нор, мечутся по песку, их клешни подняты в самом древнем и трогательном человеческом движении мольбы и угрозы. Вот так и Эфраим поднял руки к лицу, когда вышел из машины в центре деревни. Вот так и бабушка Фейга — в ожидании пеликанов и дождя.
Другие крабы заняты починкой своих жилищ, и только мокрые брызги песка свидетельствуют об их существовании. Когда они неподвижны, их невозможно увидеть, потому что они одного цвета с песком, но мне, различавшему богомолов на сухих колючках, открывавшему замаскированные ловушки пауков и без труда отличавшему простой прутик от гусеницы бабочки-геометриды, нетрудно их разглядеть.
— Ты их любишь? — спросил Давид, проследивший за моим взглядом. — Они не кошерные.
— Люблю, — ответил я. — Но я их не ем. У меня есть старая тетя, которая ест кузнечиков.
— В пустыне есть такие кузнечики, что, пока они не двигаются, тебе кажется, что это камешек, — хихикнул Давид.
— Нужно только терпение, — сказал я.
На кустах серебряного бессмертника притаились маленькие клопы, маскируясь под сверкающие сухие листочки.
«Нужно только терпение, Барух, — сказал мне Пинес, сидя рядом со мной в засаде под кустом. — Некоторые из этих белых листочков, которые качаются сейчас взад-вперед, это древесные клопы, которые умеют подражать движениям листа, раскачиваемого ветром. Мы подождем, пока ветер утихнет, и тогда ты сам увидишь. Кто будет висеть неподвижно — это лист, а тот дурак, который будет по-прежнему качаться, — это клоп».
Он объяснил мне, что человек и насекомое — это две породы существ, которые приспосабливаются к миру двумя разными способами. Человек, существо слабое и уязвимое, надеется на свою изобретательность и способность учиться, а насекомое, существо плодовитое и стойкое, не учится ничему — с чем рождается, с тем и умирает. «Даже такое сложное поведение, как то, что мы видим в ульях Маргулиса, — сказал он, — не есть результат находчивости или обучения».
Читать дальше