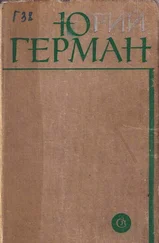Наконец он нашел в кармане пиджака пакетик с бритвами «жиллет» и сорвал обертку. Каждая бритва была в отдельном конвертике из пергамента, и чувство злобы на всю эту аккуратность охватило Жмакина. Он выбрал одно лезвие и, чтобы не порезать пальцы, снял конвертик Только с половины лезвия, на второй же половине устроил из бумаги нечто вроде ручки, какая бывает у чинки для карандашей.
Вода уже была налита; он попробовал, не слишком ли горяча, ногою, добавил холодной и, опираясь одной рукой о стенку, а в другой — в пальцах — держа бритву, встал в ванну. Воды было по колено, и, стоя, он увидел свой живот, втянутый и розовый от жары, увидел напружиненные мускулы ног. Тотчас же ему вспомнилась Клавдя, и его охватило такое отчаяние и такая жалость к самому себе, что на глазах появились слезы. Потом ему показалось, что Клавдя говорит голосом Лапшина, с его растяжечкой:
— Ах ты, Жмакин, Жмакин!
И опять:
— Ах ты, Жмакин!
Но тут же он вспомнил, что за ним следят и могут его взять, подумают, что он уходит в окно, и он решил, что для того, чтобы привести в исполнение задуманное дело, надобно хотя бы свистеть до тех пор, пока хватит сил, тогда они убедятся, что он здесь, и будут спокойно ждать его выхода.
И он засвистел, ровно и не напрягаясь, легонький и вместе с тем вызывающий какой-то мотивчик, какую-то всеми забытую одесскую босяцкую песенку со странными, лихими и наглыми словами:
Тетя, кинь пижона и возьми меня,
Тетя, я веселый буду для тебя,
Я не сын, не дочка буду для тебя,
Тетя, кинь пижона — выйди за меня.
Опершись левой ладонью на борт ванны и подняв над головою лезвие, он лег и закрыл глаза. Слезы проступили на ресницах. Он вытянулся так, что хруст прошел по всему телу, и поднес левую руку ладонью к самому лицу. Он сжал кулак. Голубая вена выступила с тыльной стороны запястья. Жмакин все свистел:
Тетя, я хороший, вежливый я буду,
Тетя, никогда я это не забуду…
Он опустил руку неглубоко в воду над грудью, приставил к тому месту, которое только что разглядывал, к голубоватой вене, лезвие и, сделав круглые глаза, не переставая свистеть, полоснул лезвием что было силы сверху вниз. Боли не было, и он только сбился немного в свисте — повторил куплет:
Тетя, я хороший, вежливый я буду,
Тетя, никогда я это не забуду…
Круглыми глазами он смотрел, как вода сразу же стала превращаться в розовую.
Я хороший мальчик, вам будет приятно,
Если уж возьмете, не уйду обратно,
Я люблю кофейни, крымское винишко,
Не судите строго вашего сынишку…
Переложив лезвие под водой из правой руки в левую, он крепко прижал локоть левой к груди и опять полоснул, и опять не почувствовал никакой боли. Вода все с большей и большей быстротой превращалась в красную, а Жмакин еще ничего почти не чувствовал, кроме легкого онемения в плечах и в кистях рук. «Сначала бы с ногами управиться», — спокойно подумал он и, усевшись в ванне, принялся поднимать и подтягивать к себе ногу так, чтобы перерезать вену возле щиколотки. Но едва только он начал резко двигаться, слабость и немота вдруг до того усилились, что он на мгновение даже замер. Отвалившись назад, он уронил руки вновь в воду, и вода опять стала краснеть с каждой секундой все сильнее и ярче. Но он нашел в себе силы еще раз сесть и, преодолевая начавшуюся резкую, отвратительную тошноту, нагнуться вперед и совершенно уже немеющей рукой, пальцами, сжимающими лезвие, дотронуться до ноги. Но вода стесняла резкость движения, и он не мог понять, где вена, полоснул просто так, наугад, и еще раз наугад, и еще, и успел сам себе удивиться. Теперь там тоже вода начала краснеть. Несколько секунд он смотрел, потом в глазах у него зарябило. Надо было свистеть, но он уже не мог. На него шла Клавдя в застиранном, узком ей платье. И Лапшин шел. И где-то пели, кричали, смеялись, что-то рушилось, ломалось, клокотала и брызгала вода. Балага протянул ему руку лодочкой. Он брезгливо закрыл мутнеющие глаза.
— Амба! — сказал он. — Привет от Жмакина.
Он очнулся в чем-то белом, ярком, твердом и с ненавистью обвел зелеными, завалившимися глазами часть стены, сверкающий бак, узкую, сутуловатую спину в халате.
Никто не обращал на него внимания.
Напрягая нетвердую еще память, он осторожно вспомнил все то, что произошло с ним в бане. Кажется, он попытался покончить жизнь самоубийством?
Терзаясь стыдом, слабый, зыбкий, с неверным взглядом косящих глаз, он лежал на тележке в перевязочной и заклинал: «Умереть! Ах, умереть бы! Умереть, умереть…»
Читать дальше
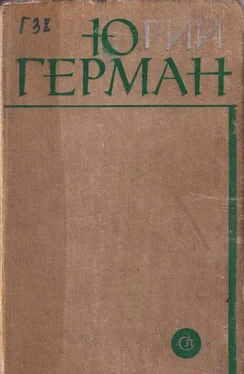
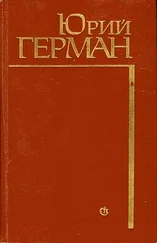


![Юрий Герман - Чекисты [Сборник]](/books/80038/yurij-german-chekisty-sbornik-thumb.webp)