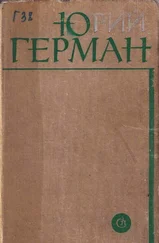В конце декабря 1936 года Лапшину исполнилось ровно сорок лет. Патрикеевна испекла пирог с капустой и настояла водки на вишневых косточках, Васька Окошкин купил в подарок Лапшину металлический портсигар с теннисными ракетками на крышке, и сам Лапшин принес от бывшего Елисеева икры, копченого угря и бутылку шампанского. Из гостей были — сосед по квартире, врач Ашкенази, с которым Лапшин часто на досуге играл в шахматы, потом приятель Васьки Окошкина, про которого Васька сказал: «Некто Тамаркин», и, наконец, товарищ детства Лапшина, агроном Хохряков.
Собрались часов в девять вечера и, поставив стулья у топящейся печки, неторопливо разговаривали о будущей войне.
— Ихний генеральный штаб как думает, — говорил Лапшин, грея у огня свои большие, сильные руки и поглядывая снизу на Ашкенази, — ихний генеральный штаб думает вот как: в 1606 году польская армия без всякого сопротивления дошла до Москвы. Правда, и драпанула вместе с Владиславом, но все-таки до Москвы дошла. Второй раз Москву взял Наполеон, — ему фронт обнажили, он и взял. Так вот, что обнажили — ихний генштаб не думает, а что Наполеон взял — думает…
Лапшин прищурился и засмеялся.
— Тут-то и конец пришел великой армии, — продолжал он, поворачивая ладони тыльной стороной к огню, — стратегия была наша, а не ихняя. Об этом им надо крепко подумать, прежде чем кидаться. Верно?
— Верно, — сказал некто Тамаркин. — Кроме того, наш воздушный флот тоже, извините, — подвиньтесь…
— Сильный? — спросил Ашкенази.
— Слава богу, — усмехнулся Тамаркин. — Пальца в рот не клади!
И так как все молчали, то Тамаркин вдруг соврал что-то чрезвычайно неправдоподобное насчет какой-то прыгающе-летающей машины.
— Вся голубая, — сказал он, — чудовищно! Действительно, техника на грани фантастики.
— Ох и врун! — сказал Васька. — Ты, Тамаркин, ешь пирог с грибами и держи язык за зубами! Раз ты электротехник, то и рассказывай насчет там электричества.
— Я люблю авиацию, — сказал Тамаркин, — и не учи меня!
Он очень покраснел и молчал, пока не выпил две рюмки настойки, а потом наклонился к Ашкенази и рассказал ему историю перелета Линдберга. Лапшин разговаривал с Хохряковым. Они вспоминали Волгу и детство и делали это с той настойчивостью, которая появляется у людей, когда они знают, что, если воспоминания окончатся, говорить будет не о чем. И действительно, вспомнив все, они замолчали.
— Раскидала нас жизнь, — сказал, наконец, Лапшин. — Как твой город-то называется?
— Рыльск.
— Вот, Рыльск, видишь? А мне сорок годков стукнуло…
Лапшин закрыл глаза и покачал головой. Тамаркин, Ашкенази и Окошкин, сидя рядом на кровати, негромко пели:
Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей…
— Красивый романс, — похвалил Хохряков, — цыганский, что ли?
Они выпили еще по рюмке настойки, и Хохряков сказал:
— А я, Ваня, беспартийный.
— Исключили?
— Почему исключили? — испугался Хохряков, — Ну просто я беспартийный. Как говорится, чем был, тем и остался.
— А почему?
— Байбак я, — сказал Хохряков, — и женат на поповской дочке. Начнут спрашивать, почему да отчего…
— Ну, это глупости! — сказал Лапшин. — Причем тут поповская дочка?
— А притом, — ответил Хохряков, — притом, что действительно притом…
Он наморщил лоб, и Лапшин вдруг заметил, как он постарел; заметил, что усы у него седоваты и глаза старые, выцветшие; заметил, что у него одышка.
— Эх, Ваня, — сказал Хохряков, — Ваня ты, Ваня, завидую я тебе, что ты в городе живешь! Культурно у тебя, театры, балеты… Я тоже люблю.
И запел жиденьким голоском:
Тот кумир — телец златой…
Сконфузился и испуганно взглянул на Лапшина.
— Знаешь, Ваня, — сказал он, — моя жена хорошая женщина. Поедем ко мне, поживешь, отдохнешь. Помидоры у меня, дыня есть, вывожу помаленьку… А? Поедем?
— Да некогда, брат! — сказал Лапшин, не зная, что ответить.
И он пристально поглядел на Хохрякова и подумал о том, что они теперь разные и ненужные друг другу люди.
Тамаркин предложил сыграть в подкидного. Все сели вокруг стола, и Ашкенази сказал, зевая:
— Пора спать, черт дери!
Дураком оставался Окошкин, и Тамаркин каждый раз говорил ему:
— В любви, Вася, повезет! Ты не унывай!
После карт еще поговорили о войне и разошлись рано, в двенадцатом часу. Лапшин был не в духе и, проводив гостей, сказал Ваське Окошкину, что его Тамаркин — чепуховый человек.
Читать дальше
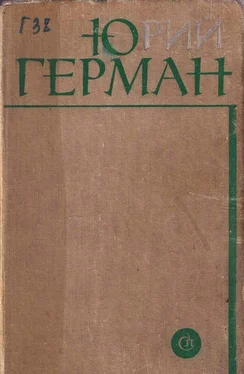
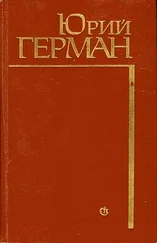


![Юрий Герман - Чекисты [Сборник]](/books/80038/yurij-german-chekisty-sbornik-thumb.webp)