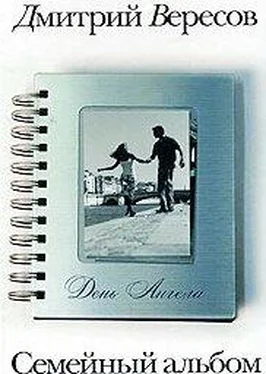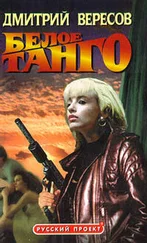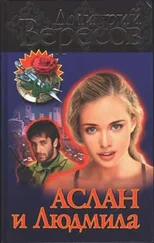Никита рысил на Зверинскую, к Ане, так как повод был (и искать не надобно): реанимировать комп. Повод был, был, слава тебе, господи. Потому что как же мириться без повода-то? И первые слова тоже были, сверкали и лоснились, как подарочная авторучка в футлярчике, только кнопочку нажми, и начертаны будут те слова уверенным почерком, недрожащей рукой: «Анька, ты не спишь? Яблок принес». Именно так: «Анька, ты не спишь?» Анька… Я замерз, Анька. Такая холодная ночь. И темень. И кроссовки вот, к чертям, развалились… Провались эта пятница, Анька. Анька, а ведь давно уже за полночь — сегодня другой день, и, может быть, даже дождь, чтоб его, кончится, и белый свет не заплесневеет-таки.
Он выбрался на Большую Монетную, ночью превратившуюся в длинную и безалаберную парковку. Автомобили спали бок о бок, иногда с дурного сна взвывая сиренами. И не ведал Никита (никто ему рассказать не удосужился), что в этом вот дворе за высокой аркой, которую он только что миновал, в те времена, когда Большая Монетная была еще улицей Скороходова, подрался его отец, защищая малодушного брата своего и его девчонку, и драка эта непостижимым образом свела его родителей для того, чтобы он, Никита, появился под солнышком.
Добравшись до Каменноостровского проспекта, Никита пересек его под желтым недремлющим оком, что мигало на перекрестке, и дворами, повторяя дневной Анин и Войда маршрут, припустил к Зверинской, все быстрее и быстрее, подгоняемый холодом и чем-то еще, чему не нашлось определения, чем-то, что оседлало и пришпоривало сердце так, что оно скакало все быстрее и быстрее, во весь опор — ретиво и восторженно, словно застоявшийся мустанг. Он взлетел по темной лестнице мимо мутных от грязи, потрескавшихся оконных стекол и облупившихся стен, взлетел под самую крышу, под протечный, осыпавшийся до дранки потолок. В кромешной темени, на ощупь, легко попал ключом в замок, привычно прижал, тряхнул, повернул, подергал, троекратно изрек матерное заклинание, и дверь открылась. Лучше бы она не открывалась.
В кухне горел свет, дверь в комнату была распахнута во всю ширь, а на диване спали, переплетя конечности. И сбитые простыни ниспадали на пол, и одеяло валялось само по себе, и никто не ныл, не тянул одеяло на себя, не дрожал цуциком и не жаловался на холод, несмотря на полную обнаженность. Жарко им, как видно, было, Аньке и Войду, словно грешникам в… раю.
…Надо было поселиться навсегда в том общежитском коридоре. Или по-наглому «просочиться» к этому, к неврологу. Или у хирургов тапочки отнять. Тогда бы ему наподдавали больно, и он точно никуда бы до утра не пошел, сидел бы в темном уголку и раны зализывал. И не лицезрел бы грязную эту порнуху. Порнуху из порнух. А он-то, сопли развесив, к любимой спешил в одной рубашке по морозу. Так вот впредь не вздумай себя винить, рыба-Кит, совестливый какой нашелся. Девушки, как давно известно, отродье крокодилов, и вероломство имя им, в чем ты сегодня убедился. И не единожды убедился.
И что же, теперь не жить? Ха! Не дождетесь, девушки. Для начала придумаем себе герб, например вольный кобель породы бассет, попирающий мускулистой лапой шипастый ошейник, на небесном звездном поле. И — вперед, собачьей рысью, хвост задравши, под знамя всех вольных кобелей.
Никита оставил на столе помятый пакет и ключи, подхватил свой спящий мобильник, о котором чуть совсем не позабыл в круговерти неприятностей, натянул свитер, какой нашелся на вешалке, прошипел что-то невразумительно укоризненное в сторону Эм-Си Марии, будто это она виновата: недоглядела, старая крокодилица, — и убрался подобру-поздорову навстречу новому дню. И все пытался растянуть в беспечной улыбке губы, но слишком замерз, должно быть, потому что ничего не получалось, кроме кривой и горькой гримасы.
Поэтому, если вы хотите в эти тяжелые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать по специес-талеру в день и получить еще подарок сверх того, то потрудитесь завтра ровно в двенадцать часов явиться к господину архивариусу, жилище которого вам легко будет узнать.
Э. Т. А. Гофман. Золотой горшок
Таня Грачик уверена была, что не уснет, поэтому засела в ванной, просторной, как во многих старинных петербургских домах, и мрачноватой, со сводчатым потолком, лет сорок назад частично перекрытым грубыми дощатыми антресолями, на которых похоронены были всяческие банные мелочи — мыльницы да ковшики, в которых отпала необходимость, а также облупленные эмалированные тазы и цинковое корыто. Таня засветила лампадку под красным стеклом, поставила на табуретку и расчехлила допотопный, дедушкин еще, увеличитель, на второй табуретке разместила кюветы со сливными носиками и всю ночь священнодействовала: возилась с реактивами, проявляла пленку, печатала фотографии, развешивала сушиться на прищепках всю минувшую пятницу, уплощенную, черно-белую, как ей нравилось. Чернобелая фотография — это вам не компьютерный дизайн конфетных фантиков и не бездумные радости дикаря-дилетанта, обретшего цифровую технику, способную добросовестно фиксировать сюжеты окружающего мира, которую Таня именовала «что вижу, то пою».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу