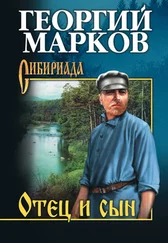И мы уже и к Сампсону достояли, и записки отдали, и обратно уже пора уходить, а он все еще людей принимал. «Ну, что же, когда же мы идем?» – спрашивает у сестры. И все так тихо, такое смирение, Божечки ж ты мой. Именно что цвет небесный, «сеннолиственный». И вот повели его на выход после двенадцатичасового стояния, и он благословляет, и я – к нему под благословение и мысленно уже свое желание тайное говорю, а он так медленно меня перекрестил, с такой нежностью невыразимой, и как бы кому-то другому говорит, а я понимаю, что мне: «Людей не надо бояться. От людей только хорошее». Нерешительность – моя печаль. Я сто раз передумаю, прежде чем к кому-нибудь обратиться, позвонить по делу, медлю, и мысль позвонить переходит в мысль: завтра сделаю. Конечно, мне тогда он это, голубчик, сказал, мне. И еще сказал: «Не расстраивайтесь те, кто не подошел, спрашивайте меня внутренне, и я вам отвечу». Что может быть роднее монаха, не знаю.
Дмитрий Солунский – воин. Мозаика XII века из собора Архангела Михаила Златоверхого мужского монастыря. В революцию монастырь упразднен. В 1935 году принято решение взорвать собор Архангела Михаила. Пока готовился взрыв, профессор В. А. Фролов под свою ответственность тайно перенес несколько мозаик собора на цементную основу в чугунной раме. После одной из выставок мозаика осталась в Третьяковке.
Дмитрий Солунский довольно-таки легкомысленно опирается на щит, касаясь верхушки копья указательным пальцем, никакой готовности номер один. Удивительная – отмеченная мною – безмятежность.
– Так что его защищает? – вопрос нашей ведущей по залам древнерусского искусства.
А действительно, что, если сам он ничем особенно не озабочен. Так что или кто? Непонятно. Нам непонятно, хотя мы всем своим ментальным усилием и высшим гуманитарным образованием вперились в мозаику, но непонятно.
В другой раз приходится снисходить.
– Вглядитесь, общий фон фрески – золотой. Семантика золотого цвета – высший духовный мир. Золотой – цвет верховный, Божественный. Это область Бога. Теперь внимательно переводим взгляд на одежду Дмитрия Солунского. Плащ – синего цвета, перевязь – белая. А на уровне груди, где доспехи, видите, тем же цветом золотым выложено. Почему? Да потому, что Бог его защищает. Художник от себя ничего не выдумывает.
Защищает. Как бы только это в себя вместить. Все к тому, что к Богу надо быть ближе. Куда уж ближе, я и так ему в переносицу. Но это, конечно, в особые минуты. Так-то я далеко. А особые минуты случаются. Живет внутри меня, в самой глубине, на дне шахты, в гнезде из сухих трескучих сучьев, птица липкая Паника. И есть посвист соловьиный страшный, по которому вырывается она вертикально из своего колодца на погибель мою. Погубить хочет. Что нужно для этого? Какие такие обстоятельства? Да ничего особенного: войти в лифт либо спуститься в метро на эскалаторе. И чтобы вдруг – встал лифт скелетом в шахте или поезд мертвой змеей – в тоннеле. Тишина. Замерло движение жизни. О, вот тогда-то «смотрят, ничего не видя глаза, в ушах – звон непрерывный, потом жарким я обливаюсь, дрожью члены все охвачены, зеленее становлюсь травы, и вот как будто с жизнью прощусь...». Но не любовное это бессилие, а самое зоологическое. Раскрылись пещеры Ужаса. Полетели доли минут, доли моей жизни. И одно только остается мне – быть к Нему ближе.
Оттирая испарину со лба, расстегивая трясущимися пальцами всевозможные пуговицы, освобождаясь – не стесняясь, руку сзади за спину, – от тесного лифа, «воздуху мне, воздуху...», опустив голову, некуда ниже, начинаю «Богородицу». Весь мир для меня теперь – внутренняя моя. «...Богородице Дево, радуйся». Голову еще ниже. Сознание не теряем, держим себя. А птица Паника уже сзади поклевывает, лапками по воротнику переступает, крылом сбивает, чтобы сползла я по сиденью вниз, себя забыла, застонала, замолила: «О, как мне плохо. Спасите, плохо мне, помогите, откройте двери, воздуха, воздуха мне не хватает». Прочь, злая птица. Я еще по точкам пройдусь. У меня – атлас дома, массаж точечный...» Вот, «Богородице Дево, радуйся», жму подушечку безымянного. Это сердце. «Сердце в груди бьется, как птица». Так... «Богородице Дево, радуйся»... Мне хорошо. Спасибо, Пресвятая Матерь Божья. Мне хорошо. Помилуй меня. Сейчас поедем, сейчас тронемся. Тут и машинисты сутками работают под землей, и другие служебные люди. И после смены на кухне всей семьей чаи гоняют с баранками и сухарями, выбравшись из сумеречных тоннелей. «...Благодатная Марие, Господь с Тобою...» А пещеры Киево-Печерские такой тесноты в лавре, в которых старцы себя замуровывали пожизненно. Забыла? Как узкими ходами с поворотами торопилась, выходила на свет божий, удивлялась. Не могла отдышаться. Поезд стоит. «Господи, помилуй меня, грешную!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу