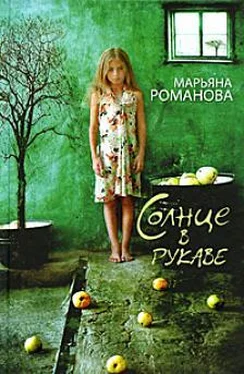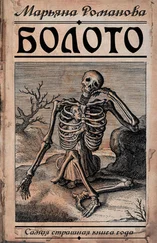– Я не поступила, – кричала Надя в трубку. – Слышишь меня? Не поступила!
– Что? – смеялась Марианна, и по тембру смеха становилось понятно, что это, скорее, не естественная реакция, а поза, «вот_как_чертовски_очаровательна_я_когда_хохочу». – Аааа! Валер, отстань, не трогай меня… Надь, прости, ко мне Валерка заехал, родителей нет. Что там у тебя?
– Я не поступила в институт. – Надя вдруг почувствовала, что сейчас расплачется, впервые за весь день.
– И все? – Новая порция серебряного смеха. – Нашла чему печалиться… Мы с тобой работать пойдем!
– Что? – Надя на всякий случай подула в трубку: слово «работать» казалось несовместимым с образом подруги. – Куда работать?
– Не на завод, разумеется! Есть отличная вакансия – младшие продавцы в магазин парфюмерии. Потом расскажу. Двоюродная тетка моя открывает магазин такой. Там и работы-то – сидеть в хороших костюмах в красивом помещении. Покупателей нет почти. А платят нормально.
– Но я не хочу быть продавщицей. Я модельером быть хочу.
– Ладно, Надюш… Мать на три часа всего ушла, войди в положение. Потом поговорим. – И Марианна отключилась, а Надя снова осталась на солнечной улице одна.
Правда, ненадолго – ее заметила появившаяся со стороны Патриарших мать. Тамара Ивановна, как всегда, была смешлива и легка – в шифоновом сарафане, с взбитыми в пену кудряшками, в облаке жасминовых духов. Она вприпрыжку подбежала к дочери и чмокнула ту в нос. В мамином присутствии солнце сияло ярче.
– Ребенок, а что ты тут делаешь? Мы разве договаривались?
Надя покачала головой. Ее покрасневший нос (все-таки всплакнула) и понурые плечи остались вне зоны маминого внимания. К Тамаре Ивановне негатив не лип, она предпочитала концентрироваться на хорошем. В детстве Надя считала, что это дар, потом – что наказание. Возможно, это было и тем, и другим. Как в «Том самом Мюнхаузене» – смех удлиняет жизнь тому, кто смеется, а не тому, кто шутит. Для мамы – дар, она всегда словно в воздушном шаре, наполненном веселящим газом. Для окружающих – боль, а как иначе, если тебе плохо, а самый близкий человек легкомысленно смеется в лицо?
– Ладно, пришла так пришла. Пойдем же ко мне. У меня есть пирожные. Знаешь, мне тут подруга мужчину сосватала, а он кондитер. Ты обалдеешь. Я таких пирожных никогда в жизни не пробовала.
Надя позволила отвести себя домой. Притулившись на шаткой табуретке знакомой кухни, раздвинув горы грязной посуды (мама была маниакальной чистюлей по отношению к своему телу, но в ее доме всегда было возмутительно грязно; посуда не мылась неделями, а окна – годами), она без удовольствия выпила бледноватый чай из засаленной чашки и, не чувствуя вкуса, сжевала предложенный эклер. А вот мамин аппетит был отменным – ее крупные сахарные зубы впивались в нежное тесто, губы пачкал жирный крем. Насытившись, она наконец заметила:
– А ты что-то грустная сегодня. Женские дела?
Она, конечно, знала про вступительные экзамены, но объема ее памяти не хватило на то, чтобы запомнить точную дату.
– Я не поступила в институт.
– И расстроилась? – преувеличенно бодро воскликнула Тамара Ивановна. – Полно тебе, это ерунда. Ты же не мальчик, армия тебя не ждет.
– А что ждет? – Надя подняла на маму влажные глаза. – Я не знаю, что делать дальше. Наверное, надо поступать в следующем году. А чем весь год заниматься?
– Хорошо, что ты сразу ко мне пришла! У меня есть идея. Помнишь, тетю Нину? Ну, Нину Карачарскую?
Надя помнила. Нина Карачарская и ее волосы. Нина Карачарская и ее браслеты – много-много, серебряных, тонких, при каждом взмахе рукой они словно смеялись. В далеком Надином детстве Карачарская была уже немолода – сильно за сорок. Возраст был ей к лицу, к тому же в какой-то момент ей удалось сделать из времени ручного пуделя. Она перестала меняться, и в кулуарах, конечно, поговаривали о бешеных тысячах, заплаченных пластическому хирургу, но явных улик не было. Нина всегда была на виду, никогда внезапно не исчезала на пару недель, чтобы потом объявиться с отекшим лицом, гипсом на носу и проработанной легендой об автомобильной аварии.
Нина была художницей, не очень удачливой. И четыре персональные выставки (одна – в Париже), светлая мастерская в мансарде старого московского особняка, соболья шуба до пят и посверкивающие сквозь толщу тяжелых, как у индианки, волос, брильянты – все это дали ей мужчины. Мужчины ее боготворили, женщины – презирали. Даже Тамара Ивановна Сурина, обычно беззлобная и не склонная к пустой зависти, говорила: «Без яркой внешности наша Нинка была бы в полной жопе», а все, кто это слышал, поддакивали, причмокнув.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу