«Может быть», — ответил Д.
К теме маленького человека
По тусклому деньку по n-скому проспекту ползла бело-голубая гусеница троллейбуса. Сквозь магнитные бури и новенький ноябрьский снег. И все бы ничего, все бы неплохо, даже и несмотря на многолюдность маршрута, не обещающую приличествующего комфорта человеку — твари, звучащей гордо, но тут откуда ни возьмись втиснулись в гармошечные двери трое, чтоб им не пировалось на этом свете. Сборщики дани с хрустящими удостоверениями, с толстыми пальцами и длинными руками. Один с мокрыми от снега усами, спичкой в зубах и мощной, что роспись Сикстинской капеллы, печаткой на правом мизинце, взялся за дело громко. Народ на ближайшей остановке схлынул, оставшиеся зашарились по карманам. «У вас билет за прошлый квартал», — внушительно пробубнил «мокроус»; гражданка с неброской элегантностью в облике возроптала. Мужики, завидя прочих двух молчаливых «вышибал» с мохеровыми шеями и дерматиновыми животами, предпочитали не спорить. Но гражданка роптала, ей-то что, как видно, беззарплатной учительнице с преподавательским напевным сопрано. Узурпаторы всех времен, бойтесь маленьких, но твердых, у них одна мантра, зато ее боги слышат, одна отмычка, зато к любому замку, их голыми руками не ухватишь, а ногой пнешь — пальцы сплющит, внутри они от кишок до горла словно залиты нездешним свинцом.
Одним словом, строптивая гражданка всколыхнула тайную волну протеста, и хоть голоса никто не подавал, усатый, похоже, сглотнул ядовитой энергии, выделившейся с потом народным, так что уже старец, по виду ветеран войны 1812 года, но без подтверждающих корочек, привел басовитого сатрапа в злобное замешательство. В хвосте троллейбуса заверещала девушка, подвергшаяся контролю одного из «пузатых».
— Ты, ублюдок сраный, ты — меня! — беременную! — толкаешь?! Да ты, мразь, не знаешь, на кого руку поднял… Совсем уже обнаглели, на беременных замахиваются…
Девушка возмущалась напевно, с расстановкой — заслушаешься! Неловко схвативший ее за локоть контролер непривычно для себя растерялся, почесал маленький и покатый, как у обезьяны, лоб, но крикунью на всякий случай не отпустил; видно, в крепенькой его головке заклинило хватательный рефлекс. Второй пузан шерстил сгрудившихся тут же на задней площадке и готовых к бегству.
— Плати штраф или сейчас пройдешь со мной в отделение. Там живо вспомнишь, где у тебя деньги.
— Да нет у меня ни копейки, ты, козел, смотри, — краснолицый паренек в пыжиковой шапке совал в лицо мучителю грустный помятый бумажник.
— Я тебе такого «козла» покажу — ты у меня по гроб жизни кровью ссать будешь! Ты у меня еще и на нарах покувыркаешься за оскорбление… — озверел Пузатый.
— Пусти, тебе говорят, говнюк паршивый, — не унималась взятая в плен барышня.
По троллейбусу пробежал недовольный гул. Усатый, чуя «наших бьют», поспешил ужесточить меры. Астматически дыша каждому пассажиру в лицо и инквизиторски нависая над ним, он не успокаивался, пока не получал желаемой дани или достойной бумажульки, дающей право благонадежному субъекту провозить свое бренное тело в муниципальном транспорте. Проездной документ подвергался самой тщательной экспертизе, на которую только способен человеческий глаз; посреди лба Усатого пролегла глубинная морщина, напоминавшая ось, на которую, как при игре в серсо, нанизывались немногочисленные мыслишки. Точнее, мыслишек было две. Они же — два вердикта: один — «повезло тебе, гадюка», второй — «ах ты, сволочь, ты что мне тут подсовываешь, а ну давай раскошеливайся!» Раскошелиться пришлось и мамаше с малолетним дитятей, и бледному подростку, и тому самому безвестному ветерану Ледового побоища. Наступила война миров, и традиционные льготы были безжалостно упразднены.
Плач Ярославны на задней площадке не прекращался, хотя беременную уже оставили в покое во имя священной участи материнства и ради демографического роста в стране. На очередной остановке она, видно, утомившись от ратных дел, чувственно прошептав напоследок: «П…..сы», гордо сошла на землю, подолом приталенной шубки небрежно подобрав мокроту со всех ступенек. За ней сошли и контролеры, победно таща за рукава свой улов. Им оказались краснолицый бунтарь и богобоязненный юноша в лоснившейся от грязи «вареной» куртке, с редкими волнистыми волосешками до плеч. Во время всей катавасии он не проронил ни слова, с испуганной кроличьей покорностью взирал на происходящее и не выказал даже маломальского протеста, когда его бесцеремонно поволокли из троллейбуса на свет божий. Усатый шумно сплюнул и хищно оглядел добычу.
Читать дальше
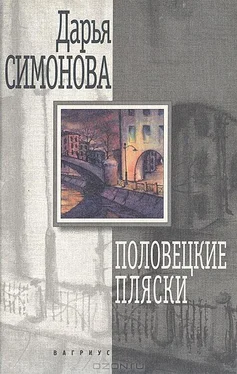





![Дарья Симонова - Дни, когда все было… [litres]](/books/401523/darya-simonova-dni-kogda-vse-bylo-litres-thumb.webp)



