— Я ничего такого не помню.
— Да тебе вообще повезло, — улыбнулась Элька и потерла кончик глаза, от чего подводка слегка размазалась и легла треугольной тенью, — ты под стол пешком ходил, когда бушевали всякие страсти.
— Вот уж не надо меня сбрасывать со счетов, я подслушивал, — гордо возразил Глеб.
— Что-то ты отощал, — внезапно сменила тему Элька, и сразу послышались глухие шаги матери в коридоре. Глеб осекся, а Элька перешла в атаку:
— Мамуль, чего это ты шалью повязалась, как беглый француз? Опять поясница?
— У меня все в ажуре. Быстро за стол, — послышалось в ответ, а потом мать полезла за какой-то вазой в сервант, стала переставлять хрустальные никчемные безделушки и, сделав неловкое движение, уронила Анино фото в рамке. Жалобно задребезжала металлическая оправа. Завороженно ахнув, мать принялась исследовать портрет.
— Ну чего ты там задеревенела?! Ни одной трещинки, — строго зазвенел Элькин голос, но матушка никак не хотела отпустить испуг.
— Даже вы, маленькие, не сломали, а тут я, старая дура, — ворчала она на себя, а Глеб поймал ее на незаметном превращении в бабушку: лицо моложавое, а походка уже утиная, улыбка покорная, и пальцы от выпуклых складок на сгибах напоминают спущенные колготки. Только бы не повторилось бабкино безумие; захотелось щелкнуть переключателем времен, увидеть мать совсем другой женщиной, с глубоким вырезом и опасной родинкой на шее, которую Глеб когда-то с детским садизмом пытался отколупать. Но тут они уже пошли на кухню, зазвенели тарелками, и минутного наваждения как не бывало, мать с нежным любопытством разрезала пирог, и ничто ее уже не интересовало, кроме пропеченности сочного теста с темным ягодным сердцем.
Уже ночью, когда мать уснула, Глеб и Элька непривычно вместе сидели в полутемной кухне, вспоминали всякое старье и ни слова о будущем. Элька всегда боялась что-нибудь сглазить. И вдруг сама переключилась на темную тему:
— Ты вот заладил, что тогда случилось, что случилось… Ничего не знаю наверняка. Был скандал. Подозреваю, что из-за отца, подозреваю, он стоял поодаль и слушал, но боялся вмешаться. Он не любил обострений… Трагедия в цветущем саду, акт первый, — усмехнулась Элька, — но именно так я себе это представляю. Я думаю, Аня злилась, и ее можно понять. Ей наверняка хотелось большего, нежели скромная роль остепенившейся матери-одиночки. Да, мать говорит, у нее был голос, но, понимаешь, голос — еще не дар, еще не драйв, не знаю, как объяснить! У голоса — своя душа. Он — безусловная ценность, но ведь нужно еще пробиваться, ломая когти, жить этим, сходить с ума. А Аня посходила немного и устала. Она понюхала бездомной жизни, всяческих абстиненций, поиграла в вокалистку, и что дальше? Мне думается, ей не хватило, как ни странно, страха, который заставляет идти ва-банк. Страха, что ее не будут любить, выгонят из дома, отлучат от церкви, не знаю, что еще. В сущности, это и не страх вовсе, страх — это только низменная сторона этого мощного чувства. Быть может, люби ее бабка чуть меньше, все получилось бы иначе. Хотя я опять употребляю неточные слова, просто непоправимо неточные! Грубо говоря, Аню мало били по лицу, а она хотела этого, нарывалась, но так по-настоящему не нарвалась. Ей нужны были трудности и страдания, а ей их не давали. Какая нелепость! Ведь поэтому она и умерла.
— Ты не могла бы расшифровывать свои глубокомысленные сентенции?
— Не могла бы, я сама плохо их понимаю, — невозмутимо продолжала Элька. — Это ведь всего лишь мои догадки, я не Достоевский и не Зигмунд Фрейд, аргументация моя страдает. Но я думаю, Аня любила свою сестрицу, как ни трудно в это поверить. Она хотела заразить ее своей бурной жизнью, хотела абсолютно искренне, в какой-то момент она послала к черту условности и поняла, что мама — единственный близкий ей человек. Но Аня набрела на нашего папу, а потом у сестер случился конфуз. С ее колокольни это наверняка было двойным предательством — любовника и родной сестры. Мне тоже на ее месте было бы не по себе, и не важно, что к тому времени она с отцом рассталась. Похоже, слишком быстро все произошло. А наша мама — чистая, опрятная и простая, как булка хлеба. Ведь как обычно женщины рассуждают? Я такая милашка, такая индивидуальность, такая Марлен Дитрих или Вероника Фосс, в конце концов, а мне предпочли вопиющую посредственность. Я уверена, что Аня так думала, а на папашу возлагала пустые надежды. А ему по большому счету плевать на все, он искал не слишком шумную пристань. Свое равнодушие он называет здравым смыслом, оно позволяет ему не терзаться по каждому поводу, мол, мучаться прошлым — только язву себе наживать. Я б не хотела связывать жизнь с птицей такого полета. Мать связала, это отчасти научило ее жесткости. Она тоже расставалась без истерик. Они с отцом из одного теста. Такие ледышки до смерти идут бок о бок именно потому, что ни один из них у другого ничего не просит и ни на что не надеется. Но стоит только начать… Аня сделала эту ошибку.
Читать дальше
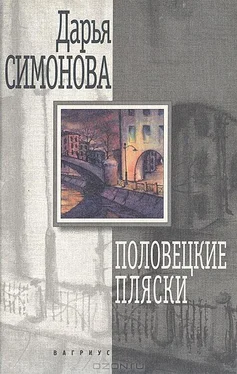





![Дарья Симонова - Дни, когда все было… [litres]](/books/401523/darya-simonova-dni-kogda-vse-bylo-litres-thumb.webp)



