…Флорину никто рук не протягивал. Никто не слышал его бредового шепота. Только хромая собака, глотавшая тухлое мясо. Но собака привыкла. Ее хозяин тоже говорил с Богом. С виду равнодушный и сосредоточенный, как любой хороший лекарь. Его борода пахла жареными семечками, в его доме было еще жарче, чем на улице, а его сын стрелял из рогатки черешневыми косточками. Ни в кого, в невидимую беспорядочную цель, и оттого бывал опасно меток. Но вреда от него, кроме сора в ботинках, не было. Он вечно шлялся на самом пекле и казался неуязвимым для солнца. Потом сына увезли, и Флорин остался с доктором-самородком, которому не верил и норовил спастись от него тихим бессильным бегством. Но тот, уповая на Бога, поднял Флорина на ноги…
В тот день они с Илоной слишком невнятно простились. Флорин не давал волю предчувствиям, предпочтя отдаться естественному ходу событий. Он тянул и тянул время, топтался в прихожей, Илона дулась, ибо опять не услышала ничего хорошего о своем кушанье, она знала — если Флорин помалкивает, значит, все из рук вон плохо. Но в тот раз Флорин молчал, просто потому что уже упал в другое измерение и думать забыл о карпе. Хотя и проглотил его с удовольствием. В тот раз Илона была молодцом…
А он так и не сказал ей об этом, и больше никогда не скажет — скажет кто-то иной, конечно, и об ином блюде, и Илона, к счастью, не помнит обид так долго. Теперь уже не от чего сходить с ума.
Он сунул в карман валявшуюся на полочке под зеркалом монетку, датскую денежку — просто так. (У Илоны валялось много чепухи.) На память — было бы глупо, зачем усиливать и без того болезненные судороги. Просто взял — и все. Ребенок спал в дальней комнате. Флорин принес ему тогда надувной глобус, и весь вечер у домашних в глазах мельтешили желтые материки.
Флорин цокнул замком за спиной и обнаружил в кармане забытую зажигалку. В смысле — ее отсутствие. С досады даже вздрогнул, потом муторно брел по лестнице в косых солнечных дорожках. Он спускался все ниже и ниже, в запах ванильного пирога, сочившийся из-за чьих-то дверей, и в длинное нисходящее мгновение этот запах был единственным свидетельством Флориновой жизни и единственным свидетелем Флориновой смерти, быстротечного угасания сроком в двенадцать пролетов. Пирог пекли на первом этаже, и Флорин плыл с помутневшими глазами к выходу и думал о том, что, пожалуй, славно, если у кого-то праздник. Флорин обычно не плакал. Голова раскалялась от скопившейся слезной соли, но Флорин не выпустил наружу ни капли. Если бы он заплакал — его потянуло бы вернуться. А так — прощание шло своим чередом. Улица окунула его в парилку, к вечеру день и вовсе расплавился — казалось, что вот-вот начнется самовозгорание одежды на телах, быть может, это было только давней навязчивой фантазией о том, что за ним остается выжженный след на асфальте. Флорин был не против несильной катастрофки, ему было неловко и душно со своей печалью в священной неге субботнего дня. Ему хотелось ничем не выделяться.
На рынке калека с маленькой волосатой ножкой в шерстяном носке наигрывал венгерские танцы. Флорин резко остановился и кинул ему датскую монетку в пыльный картуз. «На счастье, друг!» — прошептал Флорин про себя и знал, что всего лишь оторвал от себя кусочек боли, оскаливаясь от своего богохульства. «Кровь Иисуса благословенна», — пело в нем воспоминание случайной проповеди, не вполне уместная параллель…
Он шел пустой и свободный. Почти в монастырь. Шел, стараясь затуманить взгляд, чтобы не видеть путь слишком далеко и отчетливо, меньше видишь — крепче спишь. Флорин помнил — лиха беда начало, а потом уж стерпится. Человек — не блоха, ко всему привыкает.
Даже имени ее ни разу не произнес в те годы. Из чистого суеверия, похоже. И если редкая барышня раздевалась для него, для сладкого восточного мальчика с наэлектризованными подушечками пальцев, он не дрался с призраком. Илоны не было с ним. Не было ее гусиной кожи — руки ее не помнили. И получалось все как впервые, он шутил с девочками, что, мол, некогда заново обрел невинность. И видит бог, он был таким легким без нее…
Теперь он еще и выздоровевший. Почти. От него вроде как ждали ответа на нескромный вопрос. На нескромные вопросы он любил выдавать еще более нескромные ответы. Но сейчас поостерегся.
— Мы расстались на сытый желудок. Поели… Посмотрели телевизор. Уединились в ванной. И расстались. Кажется, у ее сестры начались месячные, потому что я помню каплю крови на полу у раковины. Продолжать?
Читать дальше
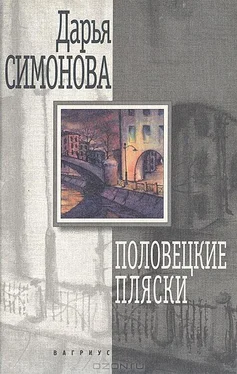





![Дарья Симонова - Дни, когда все было… [litres]](/books/401523/darya-simonova-dni-kogda-vse-bylo-litres-thumb.webp)



