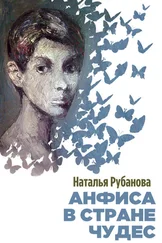Заорало оно благим матом, уже не кодируясь, а Том открылся на последней странице и приказал читать: «Много не воруй, со всеми подряд не спи, убивать тоже не надо, живи обратно ненависти», — произнесло Дитятко и задрожало, испуская последний, пованивающий гнильцой, вздох.
— Ну и дурак, — вздохнул Бог. — К тому же, уже не воскреснет.
— А зачем? — пожала плечами старая хромая Волчица.
— Действительно, зачем? — пожал плечами Бог. — Это вопрос риторический, — и исчез.
Стая уходила на север.
Бог знал, что та после разложения на элементы все-таки воскреснет, только уже сам себя хотел спросить: «Когда и зачем?», но не стал: не может же сам Бог спрашивать у самого Бога! Ему стало грустно; Ему некому было пожаловаться на жизнь; Он был совсем один: ангелы не в счет; ангелы другие…
Потом Его вдруг осенило: во второй раз перенесся Он на Землю, а когда пошел по траве, увидел, как старая хромая Волчица чему-то улыбнулась во сне: она была так красива, когда улыбалась…
Антракты между жизнью и смертью в жанре письма
Следующее утро.
Пока-пока, Горацио! На сем заканчивается История, отпустив без парашюта. Быть может, его станут выбрасывать через «у». Сегодня в трамвае видела женщину с улыбкой Джоконды и шеей Нефертити. Я зажмурилась, слегка ущипнув себя, а открыв глаза, заметила вместо женщины пустоту. Конечно, откуда в три часа в трамвае — Женщина с улыбкой Джоконды и шеей Нефертити?! К тому же, шея у последней длиннее возможной, а модель гения Возрождения — т. е. улыбка модели — достаточно никакая: так улыбаются некоторые, только о них не спорят, как о Екатерине Медичи. Сегодня, опять же, где-то написали, будто в Лувре — не подлинник. А про Нефертити ничего не написали: египтянка оказалась действительно идеальной карманной женщиной с миндалевидным разрезом глаз. Интересно, кого бы ты испугался больше в три часа в трамвае — Мону Лизу или карманную дневную красавицу? (С некоторых пор я прикидываю периодически, где может быть хуже — отсюда «кого больше»…)
Что же касается остального, то здесь все как всегда. «Остальное» — оно ведь всегда «как всегда»; «остального» очень много, местами оно скучно или банально…
Пару дней назад мне удалось прыгнуть в люди без парашюта. При болевом шоке боли не чувствуешь; все приходит потом. Это только Пешков, став позже толстотомным классиком, где-то как-то доказывал пользу людей.
Пару дней назад я не согласилась ни с Пешковым, ни с людьми. Впрочем, не согласилась — слишком сильно. Как можно согласиться с кем-то, принимающим твой язык за мертвый иероглиф?
Каюсь, не впервой. Теперь в люди прыгать стану с парашютом — это совершенно необходимое приспособление: люди его не замечают; его сама стараешься не замечать, чтоб не сильно так трясло, селяви…
День.
Отхожу от старых истин, Горацио, так и не найдя новых. Хотя истины вообще в природе нет — просто слово, шесть букв; иногда употребляется в кроссвордах. Может быть, цель жизни (не всеобщая, а конкретная, отдельно взятая) — и есть материализованная истина (опять же, отдельно взятого чела, но никак не всего мира)? Но у девяноста процентов людей нет цели, а значит, и нет истины. К тому же, раз у каждого человека разная цель, то и истина тоже весьма вариативна… Какие нудные они, эти мысли мои! Животные мудры: обходятся без букв — не разгадывают в кроссворде слово из шести, не оказываются в положении Кая, складывающего из льдинок «вечность», — опять же, свою собственную.
Едва ли Андерсен, придумавший все это, был глуп. Иначе зачем облекать «вечность» в кусочки льда? Наверное, в вечности холодно. Или зябко. Не по себе.
Другая точка зрения порождает совершенно иное толкование. Какое из них точнее? То, что существуют две вечности, совершенно ясно… — каждый выберет себе оптимальную Г — там. Или ему выберут. Там.
Интересно, как — там? Там нет листьев; одна Беспредельность. Неужели в Беспредельности нет листьев, Горацио? Вот черт!!
Роль листьев Беспредельности играем мы во все смены времен года; Земля — она как дерево, а люди периодически растут из нее, имея недолгую возможность над той покружиться… Но тогда что выполняет для Земли роль «земли»? Глупо было бы спрашивать у нее самой; Земля молчалива — никогда не проболтается; Землю можно брать с собой в разведку…
А твоего бога, Горацио, хоть тот и молчалив, в разведку брать с собой нельзя. У тебя очень странный, очень холодный «бог»! Твой бог продул меня, как сквозняк. Я долго после него болела; никто не просил меня, впрочем, сидеть на сквозняке. Никто не просил и не сидеть. Но даже без сквозняка Он какой-то слишком северный; а еще в нем совсем мало любви. Разве может быть бог — без любви, Горацио?
Читать дальше