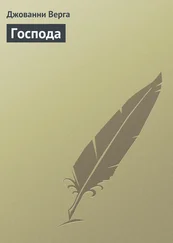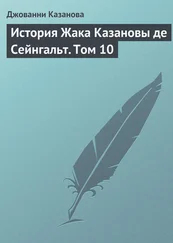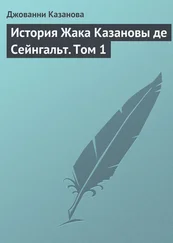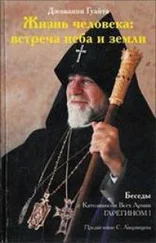Молодые встречают последние слова криками «Правильно!», «Ура!». Один парень выскакивает со старым предложением: «По мне, так пусть хоть строят тут, в долине, плотину километровую и пусть зальют эти треклятые места, чтоб было одно озеро!»
Жандарм обрывает все комментарии и переходит к голосованию. Подсчитывать легко, с легкостью побеждают те, что за отъезд (это желание увидеть новых людей, перестать топтать снег?).
В глубине души я рад, но потом проникаюсь жалостью и сочувствием к старикам; вот они уходят из остерии, и на их старых лицах написаны поражение и горечь, и их «спокойной ночи» звучит не так, как в другие дни.
Эти старики никогда не плачут, или это такой плач, которого не видно, ты видишь их слезы только у кровати покойника, кого-то из родителей, жены, сына или дочери, когда закрывают гроб, когда он или она уходит навсегда из дома, когда его или ее опускают в яму; и тем же вечером они едят и возвращаются к обычной работе: держат всё в себе.
Но, глядя, как они переступают порог остерии, выходят один за другим, прощаются друг с другом снаружи, на площади, в кругу побежденных, и слыша их изменившиеся голоса, думаешь: а уже под одеялом, не дрогнут ли? Не обвалится ли лавина у них внутри (ну хотя бы от мысли о неизбежности поражения, которое жизнь им наносит), не обрушит ли она многолетнюю привычку к стойкости, не прольется ли в них тихим плачем? Чтобы не показывать слез, они повернутся спиной к своим старухам, которые были им женами и подругами столько лет, в счастье и в невзгодах. Конечно, они могут натянуть край одеяла по самые глаза, якобы оттого, что им стало холодно. Мне хотелось бы, чтобы этой ночью они снова смогли уснуть крепким сном здоровых людей, пребывающих в мире с Богом и с миром. В прежние вечера мне нравилось слышать, как кто-нибудь из них говорит своей жене: «Иди вперед ты, постель мне согреешь». Говорили они это слегка улыбаясь, и часто это была единственная нотка нежности за весь длинный день (а скольким женщинам не доставалось и ее!), и жена отвечала, тоже с полуулыбкой: «Да сам бы пошел», а потом все-таки отправлялась.
Хватит ли нынче ночью старой подруги рядом, чтобы согреть сердце тому, кто не одинок; не станет ли эта женщина немым и безжалостным зеркалом наступающей беды? Я рад, ей-богу, что их вера во Христа велика.
А мы, люди будущего, уж разгуляемся, положим руку на плечо сказавшему, что в этих краях он не остался бы даже на фотографии, будем пить, смеяться, продлим веселье, точно с завтрашнего дня все женщины мира станут прыгать к нам в карман.
Теперь мы ждем морозной ночи, и вряд ли она заставит себя ждать, когда дни становятся длиннее. Днем солнце все больше раздвигает небосвод, и снег, что лежит поверх других слоев снега, рыхлеет, а ночной холод превращает эту рыхлую поверхность в налет из крупчатого льда.
Накануне нашего отъезда армейские лошади растопчут снег от городка досюда, ночной мороз укрепит проселок, рано утром коровы не провалятся. Отважные, аккуратные, старики готовят клетки для кур, ящики для свиней. Женщины заполняют сундуки.
Снова в ночь накануне важного события не могу заснуть; скольким еще не спится? Такое уже было со мной лет в пять или шесть, накануне первого причастия: тогда тоже назавтра мне словно предстояло отправиться в Царство небесное. День отъезда — день особый, в других местах начинается весна, а нас-то гонит зима.
Появляются конные солдаты. Мы смотрим, как они проезжают, они на нас тоже смотрят, Ассунта бормочет, вроде как про себя: «Сколько же людей на свете!» Солдаты смотрят на нас, как на диковину. И есть еще четыре фотографа; вставая на колени, они снимают снег, стариков, детей, животных. Женщины подбирают увядшие лица, когда их фотографируют. Выходят коровы из хлевов, скользя, бредут по тропинкам, прорытым между высоченными сугробами; козы медлят на пороге, забыли, как ходить, хотели бы вернуться обратно в хлев. Женщины встают в конец колонны, за коровами и козами. Кошек оставляем в поселке, мы не можем тащить их с собой в дома, которые нам дадут. Кошки — животные умные, они наверняка выкрутятся, может, одичают: неужели это произойдет и с нашей старой кошкой, которая жила у нас в доме лет пятнадцать? Оставлять ее — очередная жестокость, добавка к букету. Кто знает, как она на меня посмотрит, если посмотрит, следующим летом.
Старики кладут деньги и несколько бумаг в жилетный карман, женщины смотрят, чтобы был потушен огонь, чтобы вода в сточном желобе не текла ни слишком сильно, ни слишком слабо, а то еще может подморозить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу