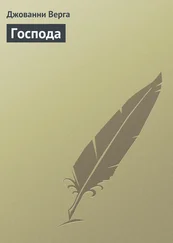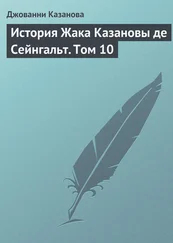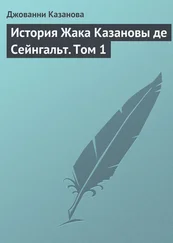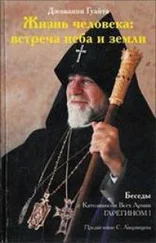Между деревнями я говорил:
— Давай, жми на гашетку.
Друг, со времен колледжа, кивал на спидометр, смеялся:
— Смотри, уже за сто сорок перевалили.
— Жми на гашетку.
— Ты умереть не боишься?
— Помнишь еще Гектора? «Против судьбы человек меня не пошлет к Аидесу».
— И как вы только умудрялись там жить, в этом снегу? На тюрьму было похоже?
Там, в горах, представляя себе весну в городе, я говорил, что проводил бы каждое воскресенье на аттракционах.
А хотелось на самом деле пива. Наверху, посреди снегов, сидя взаперти в наших домах, я думал о самосвале песку, только из карьера, об остающейся от него потом дорожке на асфальте, о солнце, которое высушивает все. О женщинах, которые там, на равнине, переговариваются с балкона на балкон и во дворах, о велосипедистах, ушедших в отрыв, об уйме простых вещей. У нас не было ни песка, ни аттракционов, ни велосипеда, ни желания выпить пива, ни кресла в кафе, ни женщин, ничего. Грязный снег. И послеобеденные часы в праздник, дома, на кухне: с разговорами женщины, пришедшей попить кофе с моей сестрой. Вопросы формально коварные, ответы формально уклончивые; и ни одной новости, которая была бы новостью. Потом пришел (хотя, казалось, ему никогда не прийти) вечер: на озере. Позови он меня, я бы тоже пошел к нему по водам. Благочестиво отправиться ко дну, если вера, как у меня бывает с надеждой, не продержится дольше толики — вечных — секунд. Но это был рыбак, который заговорил о рыбах, медленно гребя недалеко от берега: что вон там, у скалы, у рыб любовь, подходят пригоршнями.
В нескольких шагах от нас сидела компания, вокруг каменного стола. В скудном свете лица женщин — да еще ведь на расстоянии — были прекрасны, я бы бросил своих друзей ради этих, новых (мне бы хотелось — вот, — чтобы две наши компании слились). Я неотрывно смотрел в ту сторону.
Но — судьба: здесь, в городе, оттого что жизнь бежит, не можешь и полфразы сказать, не вставив этого слова, «судьба»; и впрямь (пока звучит!) это слово придает мужества, уничтожает или уменьшает опасности. А вот мой друг-архитектор (самый умный человек из всех, кого я знаю) говорит, что дело все в лживости, от «а» до «я». Книги, которые ты должен непременно прочитать, и сейчас же. В первый вечер, когда я попал в его студию, там уже сидели художник и две девушки с белыми губами и тонкими-претонкими руками: сразу же большое веселье, со мной сразу же стали на «ты», расспрашивали о лавинах, о том, что человек чувствует в глубине души; (художник): чувствуешь ли ты, я хочу сказать, что у тебя экспроприируют твое «я», то бишь твое сознание?
К счастью, мы пьем, из простых керамических чашек, девушки — виски, мы — траппу.
— Вот уж, наверно, скверно было! — замечает (какие у нее большие глаза!) одна из девушек.
— О да, очень, было… — Но художник и мой друг резко переходят к разговору между собой о строениях из цемента и из металла, о надстройках (в мозгу) и о политике, которая есть жизнь. Я изо всех сил стараюсь понять (вот лавина, если сходит, это инфраструктура, а если не сходит — надстройка?); но и девушки молчали, глубоко вдыхая дым от своих сигарет и удобно, полулежа, устроившись на диване: лучше не попадать впросак.
К тому же (для меня) было чересчур жарко, так как художник свободно перешел, у меня на глазах (словно они партию в карты играли), к поцелуям. У окна в какой-то миг мне показалось, что идет снег. Но это огни города, слова ночи, яркие, плавные, манящие: над крыльями крыш и ниже, на улицах, — протянешь руку к прямоугольникам домов, дотронешься до подоконника; и потом, здесь, в городе, если за каким-нибудь окном гасят свет, я тут же думаю, что темнота открывает дорогу любви.
Это художник сказал (и повернулся вполоборота на диване), что, мол, наш друг, то есть я, один, можно бы позвонить Кики, она не против. И повернулся совсем, чтобы мне улыбнуться, подтвердить, что она вправду, временно, не против, и я уже боялся этой Кики; сказал: «Как-нибудь в другой раз, спасибо, вы вправду невозможно любезны, но теперь мне вправду пора бежать, дела».
Так что, пробубнил я постаревшему парню в зеркале лифта, будем бороться с лживостью при помощи другой лживости, чуток постарее. Тебя испугало имя Кики? Но это всего лишь женщина, женщина.
Вот крестьяне точно подходят к жизни на свой лад: кошелек и брюхо; некоторые стали работать на заводе, они уже неотличимы от других рабочих, по воскресеньям ходят на футбол и довольны (мне кажется: а известно ли тебе, нет ли у них, внутри, своих страхов, чувства второсортности оттого, что они застенчивы, неловки и немы?). Кто-то из них, дай ему разок хорошенько заработать, готов был бы и в тюрьме провести полжизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу