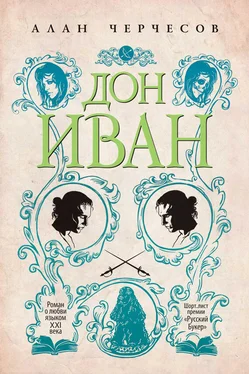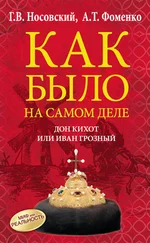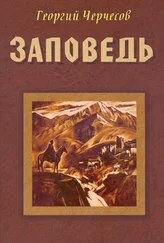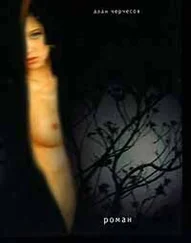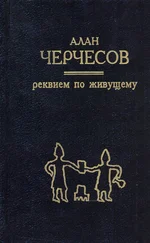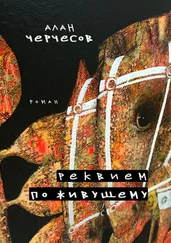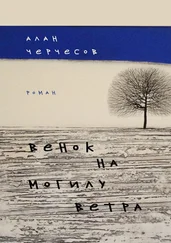* * *
Потом предлагаю продолжить:
– Представь, будто ты – это я. И пиши, как писатель, который раньше не сочинял, потому что не знал, что писатель. Тебя так приперло, что ты взял вдруг и записал. И от того, что ты пишешь, тебе еще хуже. Словно молишься Богу, которого сам же и растоптал. Причем Бог этот – самый твой главный читатель.
– А как же другие?
– Шли их подальше! Только так ты заставишь их оставаться твоими читателями.
Он посылает, топчет и молится:
«Только я наловчился стучать по ноутбуковским клавишам, как вдруг осознал, что меня раздражает в этом процессе. В этом пощелкивании дактилоскопических каблучков, отбивающих чечетку по плиткам алфавитной мозаики.
В этой игре на рояле при помощи азбуки Морзе для аудитории глухонемых (забавно, но именно я обрекаю вас на молчание)».
– Будь проще. Не сыпь так метафорами. Думай о тех, к кому обращаешься.
– Но ведь их как бы нет!
– Штука в том, что пока нету их, тебя нету тоже.
– Кто же я в таком случае?
– В данный момент ты лишь тень – своей боли.
– Если я всего-навсего тень, то они – тени тени? Пустышки моей пустоты?
– Кто б они ни были (как бы их не было), а других у тебя собеседников нету, так что советую им угождать.
– Для чего?
– Чтобы тебя не прихлопнули, захлопнув досадливо книгу.
– А обращаться к ним напрямую мне обязательно?
– Беспроигрышный ход. Они обожают, когда автор взывает к их разуму.
– То, что я собираюсь сказать, им едва ли понравится.
– Им совсем не понравится, если ты замолчишь. Покажи, что без них ты – ничто.
– А они без меня разве лучше?
– Без тебя они лучше тебя, но без них. Потому что без них ты – ничто.
– Мне это не нравится.
– Так и пиши.
Он так и пишет:
«Вот ведь хрень! Никого из вас я не знаю, а распинаюсь тут, будто стремлюсь угодить. Между тем в моем положении пристало б послать вас подальше (не худо б, конечно, себя, но невыполнимость задачи переводит мое раздражение на безликую вашу толпу).
Кажется, догадался, в чем суть: дальше, чем вы уже есть, отрядить вас нельзя. Отныне мне можно вас только приблизить.
Такой вот оптический вздор. Размышления вслепую».
Зато сразу за ними его посещает и зрячая мысль: в чем-то существенном, думает он, ковыряние в себе напоминает копание лопаткой на утыканном минами кладбище. Чтоб не рвануло костями, нужно блюсти осторожность. Оттого он по строчкам ползет и не может встать в полный рост. Мешает боязнь невзначай надавить на взрыватель. Разнести в пух и прах то, что он по крупицам собирает каждое утро из пробудившейся боли – свое неуклюжее «я»:
«Иногда мне везет, и оно собирается из достаточно крупных осколков. Иногда, стоит дать слабину, оно рассыпается сразу на сотни обломков. Тогда мне совсем не везет. Тогда в моем “я” меня почти нету.
А еще в нем давно нету слез.
Я так долго рыдал, что в итоге рыдать разучился. Вот оно как бывает: сперва ты не можешь поверить, что в тебе столько слез, а после не можешь в себе отыскать и слезинки. Слезы, как все мы и всё в нас, конечны. Иссякают они, когда в пересохшей пустыне надежд по-хозяйски, верблюжьей колючкой, заселяется непоправимость».
Про пустыню еще ничего я не знаю, да и знать не хочу: глаза слипаются, мозги еле дышат. Их от корки до корки сдавила шнуровка извилин – не мозги, а вареная колбаса.
Я объявляю Ивану отбой и награждаю пинком, отсылая на время в бездушный и форвакуум. Пусть его понебудет, пока буду быть только я!
* * *
Утром звонит св. Герман, сообщает, что нынче суббота, и любопытствует, как там мой шизофреник.
– Набивает руку на спарринге.
– Врешь.
– Вру.
– Небось, мается дурью?
– Бось.
– А поехали за город?
– А поехали.
– А не врешь?
– Очень вру.
– И надолго у вас с ним запор? Нам тебя уже жалко.
– Может, съездим? – колеблется Тетя.
– Сама. И возьми с собой пса.
В папке отходов я нахожу кое-что насчет раздвоения личности. Дон Иван оживает и оживляется: плагиатом его не проймешь.
Я сочиняю к фрагменту подводку. Теперь отрывок подтянут, причесан и даже хорош. Я выдаю его за внезапный улов страдающей заиканием памяти, что редко теперь происходит с героем – из его давних и дозлополучных времен:
«Лет пять назад водил я знакомство с одним колоритным субъектом, из принципа употреблявшим “он”, когда его “я” рассказывало о себе в прошедшем времени. Был он отнюдь не дурак, а совсем даже доктор наук. (Правда, из института уволенный: будучи крепко под мухой, обругал декана мурлом.) Чехарду в применении местоимений чудаковатый профессор оправдывал синдромом патологической честности, не позволявшей ему ставить знак равенства между прежним собою и нынешним. “Теперь-то я понимаю: он хотел быть как все и боялся меня” – что означало примерно: “Раньше я и подумать не мог, что свихнусь и стану изгоем”, – а попутно служило сигналом – поднесите на водку. Подносили, хотя откупная стыдливая жалость чревата была обязательной пыткой беседы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу